Татьяна КУЧИНА. «Щёлкать клювом – работа наша». Поэтические ландшафты Юрия Рудиса
© Т. Г. Кучина, 2013
Стихи Юрия Рудиса, доступные главным образом с сетевых страни-
чек — а это ведёт к невольному встраиванию их в контекст риф-
мованной продукции, поступающей с сервера stihi.ru и ему подоб-
ных, — отчётливо распознаются как настоящая поэзия даже при беглом
просмотре. При внимательном чтении в них внятно проступают класси-
ческие поэтические ландшафты и индивидуальные смысловые траекто-
рии, прочерченные тонко, но настойчиво; они и создают узнаваемый по-
черк автора.
Прежде всего в произведениях Юрия Рудиса обращает на себя внима-
ние доминирование слуховых впечатлений над зрительными. Акустиче-
ский мир напоминает о себе звуками то шарманки, то механического со-
ловья, звоном цикад и свистом синиц, визгом «колёс судьбы на холостом
ходу»; им в такт «одичалая правда железом звенит». Проработка же визу-
ального плана текста отнюдь не является приоритетной художественной
задачей Юрия Рудиса. В его стихах чаще случаются дождь и снег, туман
и пелена, здесь плохо видно вдаль и смутно просматриваются даже бли-
жайшие окрестности — то сквозь сумерки, то сквозь серые тени, отбрасы-
ваемые неведомо чем. Попробуйте всмотреться:
Шит туман гнилыми нитками.
Сопки, размыкая ряд,
Сквозь его прорехи зыбкие
В мутной зелени скользят.
«Раз пошла такая музыка…»
Весь из дождя и снега
долог обратный путь…
«Весь из дождя и снега…»
В дыму и ветхой позолоте
за Угличем дожди стеной.
«Сочинению»
Отчасти сновидческие, отчасти сочиняемые памятью и воображением пейзажи и не
нуждаются в повышенной контрастности или подчёркнутой интенсивности цвета; топогра-
фическая конкретика лишь намечает полупризрачные контуры реальности — не более того.
Почти всё, что «лексически» предназначено для восприятия глазом (берег, лужайка, дорога,
мост, река), на самом деле у Рудиса оказывается вписано в исключительно умозрительные
(и, как следствие, умопостигаемые) картины. Предметом его сосредоточенного внимания
оказываются те пространственные локусы, где угадываются границы яви и сна, бытия и не-
бытия. По сути, лирические сюжеты разворачиваются в потусторонности. Река, у которой
застаёт себя герой, непременно начинает казаться Стиксом:
…Но, выйдя из тумана
к чужим кострам, на берегу реки,
пред тихою водой небытия,
ещё сумею оглянуться я…
«Второстепенный персонаж романа…»
Город, к которому мчится неизвестный всадник, оборачивается провинциальными под-
мостками Апокалипсиса:
Пыль на кустах заиндевелая,
да неба серого лоскут.
Куда ты скачешь, лошадь белая?
Нас в этом городе не ждут.
В нём люди с праздничными лицами
не привечают чужаков
и убивают, как в милиции,
не оставляя синяков.
А за «сто первой верстой», в направлении, заданном «просёлками, раскисшими от мёрт-
вой воды», среди «ярославских суглинков», «лесов и болот Московской Орды» может явиться
и Атлантида — этакий обжитой, приватизированный кусок потусторонности, прикинувшей-
ся дачной собственностью:
Пусть расскажет, чем кончились сны наяву,
Честный мусор крушенья, который никак,
Никого не удержит уже на плаву,
Ещё можно нашарить в дорожной пыли
Атлантиды шесть соток на самом краю…
«Ночь обманутых женщин и пьяных мужчин…»
Однако, пожалуй, самые значимые смысловые эффекты возникают тогда, когда пере-
ходные состояния и пограничные пространства не называются, а предъявляются через
ритмико-интонационные реминисценции. Вот, наверное, один из самых выразительных
примеров:
Не дружить домами,
не ходить на «вы».
Лучше бы за нами
не было Москвы.
Разве это горе?
Всё равно, дружок,
лучше б было море,
заливной лужок.
Любой чуткий читатель расслышит уже в первых строчках ритмический рисунок хре-
стоматийных лермонтовских: «Не пылит дорога, / Не дрожат листы…/ Подожди немного, /
Отдохнёшь и ты». Дважды повторённое в анафоре отрицание при глаголах (не пылит, не
дрожит — не дружить, не ходить) явно добавит сходства двум текстам (особенно с учё-
том акустического сближения «дрожит» и «дружить»). Присмотревшись, читатель обратит
внимание на то, что и строфическая форма тоже совпадает с «исходной» лермонтовской —
восьмистишие с перекрёстной рифмовкой. Ну а всякий филолог сразу же вспомнит, что се-
мантический ореол трёхстопного хорея в русской поэзии как раз и был задан появлением
перевода «Ночной песни странника» Гёте: лермонтовское ритмическое «лекало» настолько
прочно оказалось связано с темами успокоенной природы и успокаивающей смерти, что все
последующие обращения к трёхстопному хорею неминуемо «приводили» в стихотворение
мотивы перехода, пересечения границ между «здесь» и «там», идиллического погружения в
инобытие. Так и у Рудиса — «море» да «заливной лужок» появляются за пределами истории
и географии и становятся умиротворяющей альтернативой героической смерти, о которой
напоминают «иду на вы» и «Москва» (в обоих случаях это апелляция к концепту «священной
войны»):
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
— И умереть мы обещали…
Более того, даже первокурсник филфака знает, что у восьмистишия (в тех случаях, когда
оно представляет собой самостоятельное, отдельное стихотворное произведение) в истории
русской лирики сформировалась собственная семантика — «последнего слова» поэта, лите-
ратурного завещания, итоговой декларации (достаточно вспомнить такие яркие образцы
строфической формы, как «Река времён в своём стремленье…» Державина или «До свида-
нья, друг мой, до свиданья…» Есенина). Восьмистишие пишется словно бы перед лицом смер-
ти (что, впрочем, ни в коей мере не обязывает поэта немедленно умереть), и сама «память»
строфической структуры актуализирует темы жизненной тщеты, тоски, горестных предчув-
ствий. В стихотворении Рудиса семантика поэтической формы сообщает читателю едва ли
не больше, чем собственно лексический строй текста, а «исторические» фразеологизмы («иду
на вы») и литературные аллюзии (Москва за нами) лишь обостряют контрастность исходных
мотивов — затихающей жизни, перетекающей — «разве это горе?» — в умиротворяющее
всех и вся небытие.
Высокий уровень поэтической культуры Юрия Рудиса вообще очень ярко проявляется
в свободном владении стилевой «клавиатурой» классического стиха. Речь вовсе не только
о прямых цитатах или «точечных» реминисценциях — здесь «пушкинское» высокое слово
органично соединяется с «акмеистической» предметной подробностью, отвлечённое (и «рас-
предмеченное» до полной прозрачности) символистское mot запросто соседствует с канцеля-
ризмом, а условно-риторические поэтические формулы уместно поданы в контексте жарго-
низмов. Обратимся лишь к одному вполне репрезентативному фрагменту:
На выгоревший плац слетает пыль златая,
младая жизнь кипит и надо меньше пить.
Сменился караул у гробового входа,
служебный пёс уснул в казённом закутке.
«И каждому скоту спасибо за науку…»
«Пыль златая», «младая жизнь», «гробовой вход» — узнаваемые лексические аксессуары
лирики пушкинской эпохи (частью и самого Пушкина, поскольку используется очевидная
отсылка к стихотворению «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»: «И пусть у гробового входа
/ Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»). Однако
построение предметно-персонажного плана по схеме «выгоревший плац», «служебный пёс»
и «казённый закуток» заставляет прочитывать его в системе традиционно-поэтических от-
ношений, а не как «прозу жизни». Примечательно и то, что медитативным шестистопным
ямбом с выраженными элегическими интонациями излагается стандартный сюжет сетевой
коммуникации:
О, прапорщик, зачем вы пишете в гестбуку?
Не надо этих слов так часто повторять.
Из вашего поста пропала запятая,
сейчас вас мордой ткнут, вам будет нечем крыть.
Как и в стихотворении «Не дружить домами…», память жанра оказывается настолько
значима, что, несмотря на стилистические вольности и каламбуры («пост» прапорщика), эле-
гическое начало звучит к финалу всё отчётливее, прорываясь в последних строках трагиче-
ским предвидением:
Придёт и ваш черёд домой идти с гулянки
и, встретив тень свою в рассветной полумгле,
сыграть себе на слух «Прощание славянки»
на табельном, сто лет не чищенном стволе.
Кстати, ствол/дуло — образ весьма устойчивый в лирике Рудиса и встречающийся в са-
мых разнохарактерных текстах. Микросюжеты, с ним связанные, естественным образом
рассказывают о моментальном прекращении жизненного ритма, которое ещё можно успеть
осознать, прежде чем сознание отключится навсегда — однако контексты выбираются не
ожидаемо брутальные, а сплошь поэтически-музыкальные:
Он в вашем раю проездом,
от ваших щедрот прилёг,
покуда над дульным срезом
качается василёк.
«Какие штыки и сабли…»
Вернёмся, однако, к пушкинскому фону, который опознаётся во многих стихотворениях
Рудиса — причём скорее как часть персонального культурного мира, привычного поэтиче-
ского обихода, а не как сфера интертекстуальных упражнений. Инвариантный лирический
сюжет о блужданиях в метели, об утрате пути в снежной мгле, о тоске и тревоге бытует
в русской литературе больше двух веков — но помним мы его обычно по пушкинским
«Бесам», «Зимней дороге» или «Зимнему вечеру» (хотя можно было бы назвать стихотво-
рения и Жуковского, и Вяземского, и Баратынского). Видимо, потому и чудится в плаче
ведьм и скрипе полозьев всегда одно и то же — «домового ли хоронят, / ведьму ль замуж
выдают»…
Там, за точкою возврата,
в нескольких часах весны,
где давным-давно когда-то
были мы с тобой равны,
где за снежной пеленою
ведьмы плач, полозьев скрип,
и над чёрной полыньёю
пение летучих рыб,
кончилась моя прописка.
Кто-то дышит слишком близко.
До свиданья, зверь-душа.
Всем была ты хороша.
Я лишь тень твоя земная,
в серых пальцах лёд крошу,
твоего пути не знаю
и остаться не прошу,
по-над речкой оловянной
еду, словно деревянный,
и трещат мои виски
от мороза и тоски.
Финал стихотворения — при всей серьёзности темы — иронически обыгрывает чита-
тельские ассоциации: «оловянный» и «деревянный» непременно должны бы продолжиться
«стеклянным» — но нет, хруст и хрупкость есть, а вместо стекла — «мороз и тоска» (с интона-
ционным поворотом раёшника в последнем четверостишии).
Материальная осязаемость в сочетании с зыбкостью и эфемерностью создаёт эффект
голографического изображения — и это ещё один компонент поэтического стиля Рудиса,
позволяющий миру стихотворения удерживаться на грани реального и ирреального. Вот,
например, история любви — или, точнее, многократно повторяющейся разлуки, потери, от-
чуждения:
…и дождик льёт такой воды,
что холоднее не бывает,
как будто не её следы,
а самого тебя смывает.
«…но те, кто от любви не умер…»
Бунинская синестезия (сочетание визуального и температурного ощущения) в описании
расставания даёт неожиданный эффект — не физической явленности объектов изображе-
ния, а, наоборот, их исчезновения на глазах у читателя — причём если героиня изначально
была представлена метонимически (лишь следами, стираемыми водой), то герой весь «рас-
творяется» в дожде. Бунин, впрочем, вспоминается и по ещё одной причине — в его стихотво-
рении «Одиночество» была та же деталь, исчерпывающе рассказывающая о непоправимости
ухода героини: «Твой след под дождём у крыльца / Расплылся, налился водой». Рудис, одна-
ко, обставляет сюжет символическими подробностями, то вспоминая «потусторонний холо-
док» двухкопеечной монетки для телефона-автомата, то вглядываясь в летящего за спиной
женщины «полупрозрачного беса разлуки». Ускользание или обветшание материи — один
из самых устойчивых образных компонентов его лирики; отсюда пронзительное ощущение
скоротечности жизни — но скоротечности, зафиксированной в замедленной съёмке. «Шорох
мраморной трухи» или «стрёкот мёртвых насекомых» — сродни струению песка в часах, на
глазах обращающему время в пыль, прах, тлен. Всякая жизнь неотвратимо распадается на
«элементарные частицы» — лица на пиксели, воспоминания — на отражающиеся друг в дру-
ге осколки:
…и не улеглась тоска,
из глаз твоих уносящая вон
меня, словно горсть песка.
«Свершает город вечерний намаз…»
Поэзия и память — вот то немногое, что есть у человека, чтобы замедлить, растянуть,
наполнить собой движение в небытие. Обменять слова на мгновения жизни, заговорить по-
тусторонность и попробовать отыскать обратную дорогу, усилием памяти продлить жизнь
ушедшему и невернувшемуся — что ещё есть в распоряжении поэта? Правда, у Юрия Рудиса
примерно о том же говорится без всякого пафоса и нарочитости:
Наше дело — чесать язык.
Щёлкать клювом — работа наша.
Строго говоря, это то немногое, но главное, что объединяет поэтов и пишущих о них
филологов.
Татьяна КУЧИНА, доктор филологических наук, профессор
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n3wq9/







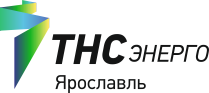



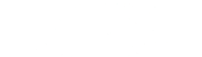
Комментарии: