Николай ПАЙКОВ. Событие и характеры в романе Г. В. Кемоклидзе «Салин»
Николай ПАЙКОВ
Когда заходит разговор о вкладе Николая Ни-колаевича Пайкова (1951—2010) в науку, в первую очередь все говорят о Пайкове-некра-соведе. Конечно, Некрасов — центр научных интересов филолога Пайкова, но при этом само некрасоведение было для него безграничным, потому что включало в себя и поэтику некрасовских поэзии и прозы, и биографические исследования, краеведение, и Некрасова как творческую личность, и литературный процесс второй половины XIX века, но кроме всего этого Некрасов для Пайкова — средоточие русского национального характера, поэт, давший России голос особый, свой, отчетливый, полный задушевной мысли.
Впрочем, как исследователь Пайков никогда не ограничивал себя; не было явления в культуре, на которое он не обращал бы внимания. Так в круг его интересов вошла древняя — античная — литература, которая была одним из его любимых периодов, так вошла русская литература XX века и современный литературный процесс. Обладая широчайшими знаниями в области истории литературы, он много занимался литературным процессом и исторической поэтикой. Много времени посвящал теории и практике филологического анализа и интерпретации текста, которые считал основой филологии. Через них, наверное, он пришел и к теории литературы, что отразилось в тематике его последних научных статей, посвященных исследованию творческой индивидуальности, художественного мира, литературного процесса, нарратологии — в каждой из этих областей Пайков сказал свое оригинальное слово. И все же была заветная область, о которой Николай Николаевич лишь обмолвливался, то сокровенное, что объединяет все, о чем сказано выше, — загадка человеческого сознания. Недаром в свои научные интересы он всегда вписывал: философия…
Интересовался Н. Н. Пайков и Лермонтовым, и Тютчевым. Но вторым по-настоящему важным поэтом для него стал Константин Васильев. Недаром Н. Н. Пайковым, заместителем председателя Комиссии по литературному наследию К. В. Васильева, так много сил было вложено в Васильевские чтения, которые во многом благодаря энтузиазму и огромной эрудиции Николая Николаевича превратились из местечкового события в научную конференцию, а «Голоса русской провинции» зазвучали на всероссийском уровне.
Известные ученые, писатели, литераторы, студенты и аспиранты вузов Москвы и Ярославля делятся на Васильевских чтениях своими размышлениями, посвященными как личности и творчеству Константина Васильева, так и актуальным вопросам регионального литературного процесса. Так, в центре исследований литературоведов и литературных критиков не раз оказывалось творчество прозаиков и поэтов Ярославской области: В. А. Замыслова, А. В. Коноплина, Г. В. Кемоклидзе, А. Гаврилова, А. М. Калинина, В. Ю. Перцева, Л. Н. Советникова, Л. Н. Новиковой, С. Лукина и др., а также творческой молодежи.
В первом номере журнала мы публикуем статью Н. Н. Пайкова, посвященную анализу романа Герберта Кемоклидзе.
© Н. Н. Пайкова, 2011
Событие и характеры в романе Г. В. Кемоклидзе «Салин»
Оригинальный роман, написанный ярославским писателем, — событие нерядовое. И вовсе не потому, что в нашем регионе писание романов такая уж экзотика. Стоит вспомнить военную, биографическую, лагерную прозу Александра Коноплина, романы-эссе Валерия Есенкова, «деревенщические» романы Юрия Бородкина, исторические Виктора Московкина. И этот ряд легко продолжить. Дело в другом. Писателю в провинции, особенно решающему обратиться к крупной литературной форме, трудно бывает избежать в той или иной степени повторения открытий большой классической и современной литературы. Если же «уроки» классики романисту, не причисленному к «большой» литературе, удается переплавить в нечто свое-обычное — это удача.
Думается, с такого рода удачей мы имеем дело в романе ярославского прозаика Г. В. Кемоклидзе. Его роман «Салин» предстает как жанрово-тематически многослойная и дис-кретная по способу подачи материала литера-
турная конструкция. Ее событийно-персо-нажную основу составляют две практически независимые друг от друга истории: повесть о демобилизованном воине-интернационалисте, вернувшемся из Афганистана со страшным травматическим опытом, сломанной психикой и отсутствием жизненных ориентиров, и повесть о становлении революционера, после-
довательного и убежденного борца за освобож-дение трудящихся от эксплуатации, во имя всемирной революции и уничтожения среди
людей национальных различий. Финалом
второй истории и истоком всей конструкции
романа выступает историческое расследова-ние-реконструкция событий ярославского ан-
тибольшевистского восстании 1918 г. В рома-
не присутствует и философский план содер-жания, представленный, с одной стороны,
жестким памфлетом о деградации коммунистической идеологии и форм социалистического быта, с другой — ирреально-мифологи-
ческой параболой о гуманистическом смысле человеческого существования в антично-но-
возаветных декорациях. Наконец, роман наше-
го писателя прошит фрагментальными включениями метаповествования о современном писателе, занятом расследованием-воссозданием исторического события в городах, где ему довелось жить, выявляющего логику бытия нескольких поколений одной семьи и обращающегося к экскурсам философско-этического характера.
Г. В. Кемоклидзе лет 20—30 назад был известен скорее как писатель — юморист и сатирик. Об этом свидетельствует и одна из его литературных премий — болгарский «Золотой еж». Но эстрадные лавры, совратившие в то время столь многих, как-то миновали его. Писатель эволюционировал к серьезной прозе. Однако острая чувствительность к жизненному абсурду составила едва ли не лучшие (а уж самые сочные безусловно) страницы его последнего произведения. Касается ли писатель того, как «гуляют» дембеля или празднуют нувориши, как бабки воюют с работягами и милицией за старый парк или как толпа митингует, как герой теряет невинность или как спорят священник Леонтьевской церкви и врач «из прежних», как собачатся друг с другом Свердлов и Троцкий или отстаивает правду «пламенная большевичка», как старухам возвращает молодость бессмертный Молх или как проповедует Диоген, — автор вновь и вновь сталкивает разные системы ценностей, недалекие претензии или наивность и недемонстративное понимание раскрываемой им сути вещей.
И наоборот, чернуха, убийства, насилие, случайная близость, криминал предстают заурядной и повседневной обыденностью, на которую лишь устало откликается сбитое с панталыку сознание.
Есть, конечно, в романе и другая тональность повествования, другой пафос мировосприятия. Скрытое неблагополучие, проявляющее себя поначалу лишь в трудностях перехода сержанта Салина к формам обыденного общения, следуя логике невозможности его существования в рамках «довоенного» бытия, тем более «неонэповского» контекста 1990-х, и в ходе переплетения его истории с историей его «прадеда» Семена Нахимсона, начинает крещендо звучать все трагичней и неотвратимей. Столкновения с милицией будто бы «по дурости» и под водочку перерастают в бесконечную и неостановимую войну с барыгами и идеологическими реликтами самого разного разбора, с властью как источником безличного насилия и личным предательством (или тем, что таковым представляется). Возникает абсолютный тупик, из которого может освободить только собственная смерть.
У Хэмингуэя «проклятое поколение» уходит трагически, но унося с собой личные идеалы. У Ремарка «потрясенным» молодым людям не во что верить, но надо как-то жить. Поколению мальчишек, прошедших Афган и Чечню, видевших смерть товарищей и тех, кого они убивали сами, — именно тем, кто смог выжить, потому что стал профессиональным убийцей, оказывается, жить не для чего. Их головы свернуты на сторону, их «профессиональные» навыки не могут быть востребованы нигде кроме преступного мира, они нуждаются в глубинной ценностно-психологической реабилитации. Но есть ли дело государству, обществу, порой даже близким людям до их проблем? Простого понимания этих проблем? Увы. Вот и ходят среди нас неприкаянными эти духовные калеки. Пьют и дерутся в дни пограничника, ВДВ, морфлота и проч., буйствуют в фонтанах, в лучшем случае показательно ломают головою кирпичи… И не в том дело, что они плохи по определению, а в том, что они так и остались не возвращенными с войны в мирную жизнь.
Да и какая жизнь вокруг? Есть тонкая пленка людей, живущих ценностями, а не одними материальными и житейскими интересами, тех, для кого живущий рядом не надсада, не повод к зависти или средство для достижения личных целей. А остальное разливанное море? Вот бывший работник идеологического отдела обкома партии, ныне торгующий нефтью за границу. Вот другой, из орготдела, продолжает работать там же и произносит дежурные надгробные речи. Вот доставала шоферит при большом начальнике: надо — был членом, сейчас же платить взносы он не дурак. Вот старая партийка, насквозь пропитанная прежними представлениями, никак не может взять в толк, что это такое происходит на ее глазах. Вот доблестные стражи порядка, которые хлопочут совсем не о человеке, которого призваны оберегать, а о том, как ущучить виноватого, на их взгляд. Никто ни за что не хочет отвечать, все хотят брать, и лучше больше и сразу. Отец, дальновидно приспособившийся к новым обстоятельствам, полагает, что выгода сама по себе способна убедить сына с его недетским опытом влиться в стаю наживающих. А вокруг цветет буйным цветом «купи-продай», «кинь-сорви», «закажи-замочи». Вот и получается: за что же эти «кирпич о голову» кровь проли-вали?
Или вот логика жизни и логика войны: одна — жить и давать жизнь, другая — убивать, чтобы выжить. Одни ищут и ждут самого-самого, «строителя» будущего, дома, семьи, другие — мыслят себя самих безусловным и не-
обсуждаемым призом, ибо столько перенесли, это не они, а им все должны.
И поверх этого из детства кричащее кризисное: «Зачем вы меня послали на чужую гражданскую войну?!» В этом вопросе, как и в цепи множащихся убийств, действует одна внутренняя логика — отрицание всех форм и проявлений лжи настоящего единственным способом, доступным нашему герою, — отнятием жизни у тех, кого он не приемлет. В натурах и деяниях порожденных обществом духовных калек оно само себе выносит приговор.
Повествующий автор признается, что целью его было вникновение в природу события и характеры участников ярославского восстания. Точкой отсчета в повествовательной оптике мог стать и Давид Закгейм, и большевичка Розанова, и кладбищенский сторож Осинкин, и священник отец Никодим, и заключенные «баржи смерти». Сомнения решил случай. Реальный ярославский «убивец» сержант Салин, оказывается, имел фамилию, повторяющую один из партийных псевдонимов Семена Нахимсона, перед самым восстанием назначенного комиссаром ярославского, в ту пору центрального военного округа и павшего одним из первых. Г. Кемоклидзе допустил, что супруга ярославского комиссара могла родить ему дочь уже после смерти мужа, а та захотела взять псевдоним отца в качестве собственной фамилии. Тем самым возникла возможность связать две далекие друг от друга истории в одну семейную сагу.
К этой связи мы еще вернемся. А пока в латышском городке Либава начинается история юноши из состоятельной семьи еврейского кондитера родом из Польши. Кроме весьма скудных строк документов из партархива вряд ли можно найти сколько-нибудь обстоятельную и достоверную информацию о деятелях революционной эпохи. Жители города о людях, чьими именами названы многие ярославские улицы, практически ничего не знают. Вот почему то, что не удосужились сделать историки, принял на свои плечи писатель. И под его пером ожила давно ушедшая жизнь.
Самое начало прошлого века, поражение российских войск под Порт-Артуром и в Цусимской бухте. Рост латышско-немецкого национализма, еврейские погромы, начавшись на юге, докатились до тихой Латвии. Местная бундовская молодежь создает боевую организацию «Еврейская самооборона». После провала революции 1905 года местные радикалы либо дрейфуют в сторону реформаторства, либо уходят в подполье. Семен из последних. Поэтому не случайно он становится делегатом 3-го Лондонского съезда социал-демократов, а позже убежденным большевиком и даже членом ВЦИК.
Частью реконструирована, частью домыслена и другая, личностная сторона этого незаурядного человека. Его стихи, статьи, письма, даже псевдонимы дали повод вообразить его полудетские страхи и первые опыты отношений с женщинами, супружескую жизнь, стиль поведения, круг интересов, жизненную позицию. Перед читателем встает не холодный кованый барельеф, а живое человеческое лицо.
Зачем же эти две столь разные и по времени, и по существу истории увязаны писателем в один узел? Тут мы вступаем в особый пласт суждений писателя. В очищенном виде идея такова: революционное насилие, ниспровергающее общественный порядок, порождает власть насилия, эта власть творит насилие в форме идеологических мифов и жупелов, которое в образе тех самых духовных калек обращает новое насилие на его же истоки.
В финальных фразах невольный убийца сержант Салин в своих бедах и страданиях винит прадеда-революционера.
Эта жесткая публицистическая конструкция, увы, отдает привкусом того же догматизма, против которого она сама обращена. Как говаривал в свое время К. Чуковский, это всего лишь «противоположное общее место». Убедительны страницы, рисующие психологическую почву, которая породила убеждения идеалистов поколения Нахимсона. Как убедительны и те страницы, которые показывают тупики «простых» расстрельных решений (эпизод с городовым Любецким). Но выстрел в собаку Диогена как-то прозрачно назидателен. Ильич же в беседе с молодым бундовцем — грубо-плакатная и неубедительная карикатура на очень непростую историческую личность.
И уж совсем кадром из хичкоковского нагромождения ужасов предстает сцена, где веревкой в дерьме роняют распятого Христа и кровища по рвам хлещет потоком. Несмотря на шахматы и карамельки не перестает быть вполне «картонным» образ Альберта Лаудиньша. Внук его удался не в пример «вкуснее». Как-то скороговорочно и по касательной показано могшее стать ярким эмоциональным акцентом событие ярославского восстания. Самое живое в этих сценах — допрос Осинкина и расстрел Николая Николаевича. Лишь сожаление вызывают и псевдоэзотерические рассуждения героев и повествователя о «каиновой печати» (серп и молот), о превращении ее в свастику. Подобные «построения» никак не удивительны для всякого рода подметных изданий, но в книге уважаемого писателя они чужеродны. Представляется даже, что везде, где Г. Кемоклидзе прямолинейно акцентирует любезную его сердцу сквозную публицистическую идею, там сразу понижается эмоциональное сочувствие событиям и характерам мира произведения, зримо тормозится осмысленный читательский интерес.
Совсем иначе звучат те драгоценные находки, где публицистика отодвигается живописью слова. Это могут быть несколько фраз об учителе военного дела или сцены с Катей, любовью сержанта Салина, изображенные наперсточники или девицы с несложившейся судьбой, учительница Филоза и пан Сосновский, допрос подполковника Будкина и особенно речевой и характерологический портрет Сталина. Это, как кажется, безусловная художественная и психологическая удача.
Здесь сложно было оказаться оригинальным. Этот характер многократно литературно и кинематографически воссоздавался. Но Г. Кемоклидзе удалось найти прием лукавой и двусмысленной беседы, где нормальная логика одного собеседника теряет прочность и весомость в столкновении с уклончиво-иезуитской игрой другого в «кошки-мышки», где «кошка» еще не решила, съесть ли «мышку» сразу или оставить на потом. И это при генетическом родстве той и другой. Писатель здесь явно усложняет свой взгляд на носителей революционной идеи. В ней ли самой дело? Или дело в проклятом родстве справедливости и несправедливости, свободы и насилия, независимости и эгоцентризма, в амбивалентности человеческой природы вообще?
Здесь блестяще сработала и многократно обыгранная ситуация лишь предполагаемого развития событий в заданных обстоятельствах. Выживи Нахимсон в ярославском восстании, что бы его ждало? Несомненно, судьба Кирова и Бухарина, Зиновьева и Троцкого, тысяч других. В условно-художественной форме писатель без какого бы то ни было публицистического нажима приоткрыл читателю гнусную историческую перспективу.
С легкой руки М. А. Булгакова («Не так, не так все было!») стали множиться апокрифические версии священной истории. Свою скромную лепту в это собрание внес и Г. В. Кемоклидзе. Его Симеон с большевистской идеей справедливого насилия, подобно Вечному Жиду, и так же, как Агасфер, не признав Христа, обре-чен скитаться во временах, беседуя то с Диогеном, то с Молхом, то с митрополитом Агафан-
гелом, то с самим Сыном Божьим. Вряд ли беседа Симеона и Человека со крестом принадлежит к несомненным эстетическим и философским вершинам в литературе, но в рассматриваемом романе это ключевые сцены, стоившие немалого душевного труда автору и стоившие этих трудов. Самая манера речи этого Христа, притчеобразная, с умолчаниями и перепадами внутренних состояний, делает страницы о Нем полными не только очевидного, но и подспудного смысла. И это тоже немалое достижение художника.
Скажем теперь нечто собственно о технике письма в нашем романе. Выстроен он, как уже было отмечено, во-первых, по типу «текст в тексте», во-вторых, с ритмическим «перебивом»/контрапунктом истории современного «невозвращенца с войны» с историей его «прадеда» и виртуально-историческими и мифологизированными картинами встреч в вечности.
Другая особенность романа — построение повествования от первого лица разных героев и автобиографического повествователя. В результате возникает система множественных оптик с противостоящими друг другу кругозорами, психологической реактивностью, ценностными установками. Мир текста перестает быть монологичным, событие становится стереоскопичным, а характер обсуждаемых истин приобретает диалогическую взаимосоотнесенность и неоднозначность.
Тот же отход от прямолинейного дидактизма находит свое воплощение и в остранении точки зрения героя реальностью. Касается ли это матери, отправившей сына на войну и потерявшей его, но желающей верить, что «на той стороне» не могут не понять, что ее мальчик не воин и его обязательно пожалеют. Или речь идет о ценностном выборе и деянии главного героя, пытающегося в мире лжи жить «не по лжи», но всякий раз парадоксально приходящего к очередному безобразному поступку или полуневольному преступлению.
Весьма любопытен также в романе характер действия двойной — финитарной и генетической — логик повествования. Согласно одной трагический конец окрашивает все рассказанные обстоятельства, даже совсем не драматического свойства, в тона рефлективной нагруженности и проблематичности. Согласно другой совершенно естественные и поначалу могшие казаться невинными завязи телеологически неотвратимо должны привести к эсхатологическому бедствию и страшному суду. Первая — логика открытия глубины. Вторая — логика неотвратимого рока и публицистического проклятия. Первая убеждает, вторая посевает сомнения. Но их взаимоостранение, переплетение, увязанность с иными привходящими философско-этическими размышлениями снимает остроту отмеченной дихотомии, переводя общее движение мысли в русло романной незавершенности и дискуссионности.
Тем самым метаповествовательные включения с автобиографическим повествователем из частного компонента в конструкции произведения выдвигаются на место серьезной организующей инстанции, выдвигающей в качестве центрального события романа не составляющие его истории или рефлективно-виртуальные отступления, но саму дискуссионность и проблематичность связей личностно-экзистенциального и социокультурного начал человеческого бытия на некотором конкретном жизненном примере. О частных характерах, это событие выражающих, было сказано выше.
Повторимся еще раз: роман ярославца Г. В. Кемоклидзе — живое и стоящее читательских размышлений литературное событие.
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/nq5m/






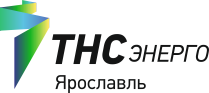



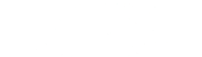
Комментарии: