Светлана БАРАНЕЙ. Главная роль. Городские притчи
Светлана БАРАНЕЙ
Родилась в 1975 г. в Ярославле. Окончила филологический факультет ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
Работала в редакциях ярославских газет: «Юность», «Караван-Рос», «Родной город», литературным редактором в ИД «Провинция».
С 2002 г. пишет рассказы, представленные в основном на интернет-портале «Проза.ру».
Живёт в Ярославле.
© С. Е. Бараней, 2012
Главная роль
Городские притчи
Голем
Йозеф Голем появился на свет в новолуние месяца Адар.
— У него зелёные глаза, — шептала служанка рабби Эсфирь своей подружке Мириам под пологом ночи, — он смугл и приятен лицом.
— Ах, — закатывала глаза Мириам, — глянуть бы на него!
— Нельзя, рабби скрывает его от людей, говорит, что нашёл на улице, и если его обнаружат, всё будет плохо.
— Ай-ай! — сокрушалась в ночи Мириам, которой минуло тридцать, но она знала в своей жизни только одного мужа, а хотелось чего-то нового.
— Приходи к нам завтра, я тебя познакомлю с ним, — пообещала подруге Эсфирь…
— Запомни, тебя зовут Йозеф, — говорил рабби Лёв своему собеседнику. — Ты прибыл к нам издалека и попался мне на глаза… Я уви-
дел, что ты достаточно сильный, чтобы помогать мне по хозяйству, и взял тебя к себе жить. Не слушай, о чём говорят люди, и не заговаривай с ними.
Рабби достал из стола тонкую золотую пластину и сунул меж зубов собеседнику, который внимательно слушал его, склонив набок голову:
— Это придержит твой язык
Йозеф крепко стиснул зубами металл, как ломовая лошадь трензель. В его глазах появилось осмысленное выражение, как будто речённая до сего времени истина, запертая теперь внутри, зажгла в гладком широком черепе свечу.
— Днём твоего рождения будет сегодняшний день, — продолжал рабби. — Забудь, кем ты был. Господь повелел ввести тебя в храм премудрости, превыше которой только Истина. Слушаешь ты меня?
Йозеф кивнул.
— Ну вот, хорошо. Теперь ступай на половину слуг, да не вздумай болтать…
— Ты не бойся его, — шептала Эсфирь Мириам. — Он не говорит ничего, похоже, глухой. — Только смотрит глазищами зелёными. Но красивый и ни к кому из нас не подходит, как мы ни стараемся…
— Эй, это мы, — постучала она в дверь чёрного хода.
Дверь открылась, выхватив из лазоревого заката и тут же проглотив две костлявые фигурки. Эсфирь держала Мириам за руку, чтобы та не боялась петлять в тёмных коридорах дома рабби. Внутри у Мириам всё дрожало, но она робела сказать об этом Эсфири: в конце концов ничего же не произойдёт, если она всего разочек глянет на зеленоглазого Йозефа Голема…
…и влюбится в него.
Удар необычного разреза тусклых глаз сковал сердце Мириам и наполнил его благоговением и страстью.
Была суббота.
Йозеф собирался на молитву. Из дверей домов торопливо выходили люди и спешили в синагогу. Прошёл слух, что по кварталу бродит убийца. Он бесчинствует в субботу, когда люди беспомощны и близки к Богу. Убийце ничего не стоит забрать душу простолюдина и ростовщика, раввина и его слуги. Ходили слухи о десяти трупах, которые якобы обнаружили рано поутру в воскресенье в самых неожиданных местах — на берегу Влтавы, повешенных за шею на фонаре Староместской ратуши и разрубленных на куски прямо на Каменном мосту.
…Мириам поджидала Йозефа из синагоги. Она сказала мужу, что отправится к Эсфири, дабы взять у неё урок рукоделия, к которому сама Мириам не была склонна, а также попросит дрожжей для хлебов. Йозеф не появлялся, и Мириам, отчаявшись, решила уходить, как вдруг дверь синагоги скрипнула, и Голем нырнул в отверзтую пасть ночи. Мириам хотела позвать его, но смутилась и вместо этого пошла за Големом по тёмным улицам — назад от дома раввина, одновременно пугаясь и радуясь тому, что была с ним наедине.
Он пробирался, как показалось Мириам, крадучись. Издали гигантская фигура производила впечатление ожившего камня, осторожно передвигающегося в узких проходах, чтобы не зацепить вывеску, потухший фонарь либо окно. Хотя, скорее всего, Йозеф старался не вступать в нечистоты, в обилии скопившиеся близ домов.
На мгновение Мириам потеряла Йозефа. Наверняка свернул в подворотню. Ей было жалко потраченного времени, тем более, что любопытство уже давно заглушило в ней желание поговорить с Големом. Мириам заметалась по улице, заглядывая в каждый тёмный проём в надежде увидеть там грузную неловкую фигуру, как вдруг кто-то схватил её сзади за шею и жадно притянул к себе…
По утрам в воскресенье Йозеф Голем был как обычно хмур и усерден. Он охотно помогал рабби, выполнял положенные задания по дому: чинил крышу, если шёл дождь, подметал пол, если было грязно. Он не гнушался никакой работы, не спорил и не ссорился со слугами, но, когда наступало время обеда, он неизменно оставался один в своём углу с миской гороховой похлёбки.
Вечера они всегда проводили вместе с рабби Лёвом. Только тот мог слышать голос Йозефа. Звуки речи Голема мало напоминали человеческие. Они были похожи на стрёкот соловья и жужжание жужелицы. Перед началом беседы рабби вынимал изо рта Голема золотую пластину и вкладывал другую, на которой были написаны слова из Торы. Только тогда Голем мог дать ответ на все интересующие рабби вопросы.
Вопросы нелёгкие. Рабби имел в королевстве славу прорицателя и чародея и мог советовать, что делать, даже королю, поэтому всегда чётко формулировал то, что хотел узнать, внимательно выслушивал ответы, которые Голем давал, согласуясь с Нотариконом (этого никто не должен был знать, ибо Нотарикон — дьявольская книга, а разве рабби Лёв хотел снискать славу приспешника Сатаны?), а после толковал их, ссылаясь на Тору.
— Сегодня мы будем говорить с тобой о преступнике, — начал рабби. — Король просит выяснить, кто вносит страх в сердце Старой Праги. Горожане начинают опасаться, что вскоре сами станут жертвой «жидовского уморителя».
— Что тебе нужно знать о нём? — проскрипел Голем.
Рабби уточнил:
— Имя.
Голем поскрипел зубами.
— Я не могу назвать имя.
— Почему?
— Это будет ударом для тебя.
— Ударом?
— Да. А первая заповедь: не причиняй зла ближнему.
— Но что мне сказать королю?
— Скажи, что это сделал тот, кто более всего на свете ненавидит людей и хочет извести весь род до последнего колена.
— Это правда?
Голем промолчал.
— Хорошо, — продолжил рабби. — Если ты не хочешь сказать имя, назови хотя бы причину, по которой этот человек ненавидит людей. Нас не любят многие в этом городе и готовы обвинить во всех грехах, поэтому подозрение сейчас на евреях, но люди вынуждены считаться с нами, потому что мы — это деньги и отчасти власть. Если мы уйдём из Праги, городу конец. Даже Каменный мост, на починку которого мы ежегодно даём деньги, рухнет во Влтаву.
— Причина — в ненависти. Ничем не подкреплённая ненависть.
— Этот человек — еврей?
— По одним сведениям — да, по другим — нет.
— Откуда он взялся?
— Он не взялся, он был.
— Был? Где?
— Здесь. Всегда.
— Йозеф, ты морочишь мне голову. Что с тобой?
Рабби потрогал лоб Голема — прохладный.
— Не может человек не иметь начала и конца пути, и тем более к любому живому существу нельзя применить понятие «всегда». Ну, давай не так общо. Когда родился этот человек?
— Нет ответа.
— Сколько ему лет? Когда он умрёт?
Тишина.
— Проклятье! — выругался раввин. Хорошо, что никто не слышал. Что же сказать королю?..
* * *
— Мой король, этот человек ненавидит людей лютой ненавистью и желает истребить весь их род.
— Это мудрый ответ. Но мне нужно имя.
— Мне не хотелось бы произносить его здесь и сейчас.
Король махнул рукой. Стража вышла. В зале, далеко у двери, остался единственный охранник. Король наклонился близко к рабби. Рабби что-то прошептал в подставленное ухо. Монарх кивнул.
— Дайте ему денег, — приказал он вошедшим казначеям. — И огласите на площади весть, что можно больше не бояться — преступник будет уничтожен сегодня же вечером.
Через три часа у главной городской ратуши был публично казнён ткач Ян. Люди плевали ему в лицо и кидали гнилой картошкой. В момент, когда тело дернулось на виселице в последний раз, склизкий ком попал прямо в лицо повешенному, отчего его вид сделался ещё более безобразным, а изошедшие из тела посмертные соки позволили толпе вдоволь поглумиться над сделавшимся неопасным преступником…
— Я сразу понял, что это сделал ты. — Рабби стоял совсем близко от Голема. — Ведь ты пришёл ниоткуда и уйдёшь в никуда, ты был здесь всегда. Это я создал тебя, долги-
ми ночами произнося заклятия Каббалы, чтобы твой Ацилут соединился с Бриах. Дол-
го я лепил тебя из грязной глины, прежде чем ты стал моим помощником для прорицаний. Это нужно мне было лишь в целях политических, дабы укрепить власть иудеев
в этом городе, заставить себя уважать, но я просчитался — ты стал убийцей. Я повелел тебе молчать — ты стал действовать. Я слишком поздно понял, кто ты таков. Пойдём, сегодня ты переночуешь под крышей, я не хочу, чтобы ты располагался с нами в одном доме.
Тихо настигла ночь Старую Прагу, схватила в цепкие объятия, задушила поцелуями. Рабби Лёв уже стар, и он не хочет, чтобы его жизнь после столь долгих поисков оборвалась, так и не достигнув призрачной рассветной звезды — своей главной цели. После
того как Йозеф с золотой пластиной во рту, грубым одеялом и подушкой, набитой прелой соломой, отправился на чердак, он не спеша достал из тайника древние книги. Сегодняшняя ночь будет долгой.
Несколько часов рабби что-то торопливо писал на пергаменте. Перечёркивал, снова писал, заглядывая в манускрипты, запускал руки в клочковатую седую бороду, тихо шептал проклятья. Наконец он откинулся на высоком стуле, закрыл глаза и вознёс молитву Богу.
Оставалось два часа до рассвета. В комнату постучали и сразу же, без приглашения вошли зять рабби Ицхак и его помощник Якоб. Рабби решительно встал из-за стола, взял тяжёлый посох и махнул рукой.
Йозеф Голем мирно спал на гнилом тюфяке. Во рту у него поблёскивала золотая пластина. Рабби с мужчинами встали с трёх сторон от его ложа — востока, запада и юга и начали молитву. От звуков Голем проснулся и попытался вскочить, но племянник рабби прыгнул на могучие плечи и повалил великана обратно на солому. Голем зарычал, выплюнул пластину и бросился на рабби, но тот лишь отступил на шаг и продолжал возносить хвалы Господу. Голем задрожал и упал на колени, и Якоб ударил его по голове посохом. Голоса молящихся зазвенели туго натянутой струной под сводом одевающихся в лазурь небес и растаяли вместе с последней звездой.
Йозеф Голем, появившийся из ниоткуда, ушел в никуда. Вместо него на соломенном тюфяке лежала горсть праха, из которой торчал край золотой пластины. Рабби нагнулся и подобрал безделушку.
…В узкое окно комнаты старого рабби заглядывал тонкий луч нового рассвета. Рабби стоял у окна и смотрел, как рождается город, — смутные силуэты обретают детали и краски, всё сочнее делаются тени на мокрых от подтаявшей наледи камнях. Где-то запела птица, снизу ей вторили голоса рыночных торговок, раскладывающих на прилавках зелень и рыбу.
Его служанка Эсфирь, подружка Мириам, рассказала рабби, что наконец свела Мириам с Йозефом. Только одна она была посвящена в тайну появления Голема. Мужчинам нужна была сообщница. Несколько дней назад Эсфирь шепнула рабби Лёву о том, что Мириам беременна — в её чреве шевелится тот, которого она называет плодом любви, ребёнок, чьим отцом стал угрюмый и неповоротливый великан.
Для того, кто во чреве, сегодня ночью рабби приготовил новый свиток Торы. Йозеф был только началом. Он, как необработанный алмаз, груб, и что толку от его слепящего блеска, если он мало отличим от блеска бутылочного стекла в сточной канаве. Рабби не создавал Голема убийцей, но всего одна лишняя буква в свитке — и он стал таковым. Значит, не лжёт древняя наука — буквы могут казнить и миловать, сводить с ума и разрушать. Ну что ж, путь проторён… С каждым новым поколением потомки Йозефа должны становиться всё более совершенными, а их разрушительная сила будет возрастать до тех пор, пока один из Големов не сможет раз и навсегда покончить с этим проклятым миром. Сегодня ночью рабби лишь незначительно подправил текст свитка, который через девять месяцев вложит в рот маленького сына Мириам, но в посмертном завещании потомкам он расскажет, что нужно делать, чтобы всего через несколько веков магический текст свитка принял свой окончательный вид. Люди алчны, глупы и злы. Они заслуживают этого.
Рабби повертел в руках тонкую золотую пластину и швырнул из окна прямо в брызнувший из ниоткуда луч солнца. Металл сверкнул и, прочертив в воздухе кривую линию, упал, никем не замеченный, в грязь.
Главная роль
Его никогда не брали на главную роль.
Он довольствовался десятой строчкой в программке, между «десятым слугой» и «псарём Прошкой».
У него не было жены, любовницы, и детей тоже не было.
Он был ещё молод, но уже никому не нужен.
Больше всего он мечтал сыграть Гамлета — желание столь же неосуществимое, сколь и банальное для людей его профессии. Он знал, что ему никогда не быть ни Гамлетом, ни королём Лиром, ни, на худой конец, Фамусовым и Земляникой. Карма что ли такая? Ведь некогда он подавал надежды, и неплохие. Начинал, как все, в заштатном театре, но с вполне приличных ролей. В «Ревизоре» сыграл клиента богоугодного заведения, а в постановке «Отцов и детей», исполненной в стиле «провинциальный постмодернизм», любовника Базарова.
Потом как сглазили. Не помогла даже Москва, куда он перебрался после десяти лет безупречной службы в глухомани. Конечно, в те годы для Гамлета он уже стал староват. Но на роль мавра ещё вполне годился. Да и возраст Чичикова, Обломова и кота Бегемота был не за горами. Но… не брали, хотя хвалили, хвалили. Дали даже медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Коллеги издевательски интересовались, почему не первой.
А ему меж тем минуло пятьдесят. Вся жизнь его была убога, как помпезный бархатный занавес провинциального театра. Это только зрителям в последних рядах кажется, что бутафорская жизнь сияет и переливается. Но чем дороже билеты, тем виднее пыль, которую поднимают тучные тела актеров, тем очевиднее поеденный молью реквизит, тем заметнее, что главный герой драмы вдребезги пьян. Именно поэтому немногочисленным своим знакомым он рекомендовал балкон.
Да, кстати, звали его Пётр Иванович Сергеев. Театральные афиши знали его как Льва Милашевского. Так он, вывернув серое пальто яркой подкладкой вверх, пытался примирить простую и убогую сценическую жизнь с парадоксами существования. Хотя в последнее время сам себя он называл Акакием Акакиевичем. Просто в одно утро, поглядев в зеркало, сказал: «Привет, Акакий Акакиевич». И как приклеилось.
Никто не подозревал об этой тройной жизни, а если бы узнали, могли подумать, что Пётр Иванович свихнулся. Каждый день в голове Сергеева разыгрывался настоящий спектакль, где все три его персонажа играли свои роли.
Акакий Акакиевич, как и положено всякому Акакию Акакиевичу, был сторонником дзэн-буддизма и считал, что главный смысл жизни в созерцании и неспешном существовании, отсутствии внешних раздражителей и страстей, которые приводят к одним лишь перерождениям и отодвигают момент истины. Милашевский, наоборот, считал, что жизнь есть деятельное движение. Он весь так и искрился, рвался за облака и по западным канонам стремился подмять весь мир под себя.
Вручение медали, естественно, явилось поводом к оживлённой дискуссии. Начал беседу, как обычно, Милашевский.
— Поздравляю! — воскликнул он. — Медаль! Какая честь! Я горд и счастлив этим! Теперь, отныне, ты медаленосец, которому нет равных ни в театре, занюханном и жалком, ни в городе, ни даже в целом мире.
— Ээээ, — прервал его Пётр Иванович. — Куда тебя понесло шекспировским слогом? — И вообще, надо быть скромнее. Ну что такое медаль к ордену третьей степени? Бронзовая медаль в соревнованиях на выживание.
— А вот и нет, — возразил Милашевский. — Судить по-твоему, так каждому третьему человеку в стране давали бы медаль к третьей степени ордена. А много ты видишь таких? «Чернобыльцы» и «афганцы» с «чеченцами» не в счет — им грех не дать. А ты подвигов не совершал, в атаку с автоматом не бросался, сидел всю жизнь в театре и играл «кушать подано». Но медаль-то, тем не менее, твоя. Значит, не только за ратные подвиги и службу государеву дают награды…
— Категорически с тобой согласен, — послышался тихий мелодичный голос Акакия Акакиевича. — Сегодня, господин Милашевский, вы превзошли самого себя по части рассуждений. Ведь из ваших слов получается, что медаль Петру Ивановичу дали вовсе не за какие-то материально выраженные действия — он ничего никогда полезного с точки зрения марксизма не сделал. То есть благ не произвёл и деньги-товар-деньги это тоже не про него. Значит, награду наш милейший Пётр Иванович получил за духовную и душевную свою сущность.
— А что же во мне такого духовного? — поинтересовался Пётр Иванович.
— Ну вот, предположим, мы есть у тебя. Чем не духовность в третьей степени? И, заметь, каждый из нас натура творческая, начитанная и мудрая, готовая в любой момент качнуть весы Мельпомены…
— Весы — у Фемиды… — встрял Милашевский.
— У каждой богини есть весы, — не меняя тона, продолжил Акакий Акакиевич. — Просто у Фемиды они орудие труда, вот она и выставляет их напоказ. У остальных они невидимы. Весы всегда на нейтральной передаче, но происходит событие — и они могут качнуться. Тогда человека ждут либо слава и успех, либо позор и поражение.
— То есть мои весы сейчас на нейтралке, — констатировал Пётр Иванович. — А что же медаль? Её нужно положить на одну из чаш, чтобы активизировать духовные силы и обрести небывалую славу?
— Вроде того, — сказал Акакий Акакиевич.
— А на какую чашу его класть, правую или левую? — поинтересовался Пётр Иванович. — Где потенциал превратится в «плюс», где в «минус»?
— Давай сначала на правую, — предложил Милашевский. — «Право» — оно слово такое… правильное. Посмотрим, что будет. В случае чего переложим.
— А вот тут я с тобой категорически НЕ согласен, — сказал Акакий Акакиевич, интонационно придавая частице статус главного слова. — Когда потенциал человека становится отрицательной величиной, положительным его может сделать только другое отрицание.
— Рассуждаешь всё, — буркнул Милашевский. — Ты примеры, примеры приведи!
— Да ради бога. Вот, к примеру, получив медаль, наш Пётр Иванович, может возгордиться — требовать главные роли, начать повышать голос на репетициях, апеллировать к тому, что у других награды нет. Результатом будет что? Правильно — испорченные отношения с коллективом и, возможно, уход из театра, да ещё с волчьим билетом. Режиссёр тут же обзвонит коллег и скажет, что будет к ним приходить имярек — медаленосный, но крайне скандальный тип. И что получается? Останется наш Пётр Иванович один на один со своей медалью к ордену и, как говорит нынешняя молодежь, сможет эту медаль засунуть себе в жопу. А что касается того, как он из этого положения может выйти, — это влиться в коллектив, который ещё гаже и скандальнее. Тогда отрицательный полюс его энергии вполне может стать положительным.
— Ну вот, у нас такой коллектив и есть, — буркнул Сергеев.
— Ай-ай, — сказал Милашевский. — А кто тебе деньги в долг даёт? Полинка из гримёрки. Кто наливает, когда есть? Дмитриев, который всю жизнь юноша. Кто рубашки, бывает, штопает? Совершенно, между прочим, бескорыстно. Ляля — инженю.
— Может, она замуж за меня хочет, — возразил Пётр Иванович.
— Она лесбиянка, — хором укорили Милашевский и Акакий Акакиевич.
— Ладно, допустим, я с вами соглашусь. Ну, а что в таком случае делать, чтобы без скандалов и увольнений мне склонить весы Мельпомены? Уже месяц со времени полу-чения медали прошёл, а главных ролей не дают. Так и остался я помощником псаря
Прошки.
— Мне кажется, — неуверенно произнёс Милашевский, — для этого нужно совершить какой-то поступок.
— Ага, — закричал Пётр Иванович, — вы же только что говорили, что орден за духовность. Откуда поступку-то взяться?
— Говорили, — мягко сказал Акакий Акакиевич. — И продолжаем утверждать. Орден за духовность, которая должна активизировать в вашей душе побуждение к некоему действию. То есть награда — это был стимул, аванс. Если мелкому коммерсанту дать аванс в банке за просто так, за опрятную внешность, он что сделает? Правильно — откроет бизнес. Так и вы, Пётр Иванович, должны сделать что-то этакое, чтобы оправдать свой аванс, быть достойным награды и в конечном итоге стать действительно великим человеком.
— Так вот просто взять и стать? — ухмыльнулся Сергеев.
— Надо подумать, — подсказал Милашевский.
— Надо подумать, — привычно повторил за суфлёром Сергеев.
Акакий Акакиевич промолчал, только посмотрел на собеседников пронзительно через пыльное зеркальное стекло.
Сергеев отвёл взгляд — он не любил встречаться глазами с Акакием Акакиевичем.
С того самого разговора мысли Петра Ивановича были заняты исключительно Поступком, который ему предстоит совершить, чтобы оправдать доверие людей. Время от времени появлялись Милашевский и Акакий Акакиевич и предлагали различные варианты.
— Может, в сериале посниматься? — мечтательно закатывал глаза Милашевский.
— В монастырь уйти! — угрюмо советовал Акакий Акакиевич.
— Спасти ребёнка из огня? — размышлял Милашевский.
— Продать медаль и деньги детскому дому отдать, — вворачивал Акакий Акакиевич.
— Написать книгу… — терялся Милашевский.
— Уйти на пенсию, — отрубал Акакий Акакиевич.
— Жениться? — предвкушал Милашевский.
— Изучить древние методики самопознания? — пугался сам своего экстремизма Акакий Акакиевич.
Но, несмотря на полифонию мнений, Петру Ивановичу не нравился ни один из предложенных вариантов. Для написания книги он считал себя недостаточно талантливым, для ухода в монастырь — недостаточно верующим, для пенсии — недостаточно старым, для спасения ребёнка — недостаточно храбрым…
Ему недоставало всего.
Даже глядя в зеркало, Пётр Иванович не был уверен, что через секунду вспомнит собственные мелкие и невыразительные черты лица. Акакий Акакиевич и Милашевский — другое дело. Это были фигуры, личности! Один яркий и нарядный — обязательно одетый в дорогой костюм, в бабочке и тонких очках, с усами и крупным породистым носом. Другой представлялся Петру Ивановичу буддийским монахом бритым наголо и завернутым в серый драп. Но, глядя вслед обоим, можно было сказать: вот идёт человек, который есть личность.
— Ну и что, — парировал Милашевский. — Ведь мы — часть тебя, поэтому и ты вполне тоже можешь считаться личностью.
— А если вас не станет?
— Можно попробовать, — задумался Акакий Акакиевич. — Хочешь, мы уйдём.
— Куда? — ухмыльнулся Пётр Иванович. — Куда вы от меня уйдёте? Ведь вас нет, вы дух без плоти, вы только и можете, что дискутировать в моей голове.
— Мы уйдём, если уйдёшь ты, — просто сказал Акакий Акакиевич.
— Это как?
— Не догадываешься? — поднял брови Милашевский. — Бах — и всё. Или чик — и всё. Или…
— Есть много способов, — сухо уронил Акакий Акакиевич.
— Вы что! — задохнулся Пётр Иванович. — Самоубиться мне предлагаете?
— Ну ты же хотел от нас избавиться, — желчно ухмыльнулся Акакий Акакиевич. — Заодно проверишь, достоин ли награды.
— Это типа тварь я дрожащая или право имею?
— Типа.
— Так ведь это было уже, — пробормотал с тоской Пётр Иванович. — У Достоев-
ского.
— Всё было, — философски пожал плечами Акакий Акакиевич. — Пусть уж лучше как у Достоевского, чем как у тебя.
— Почему я вам так не нравлюсь?
— Заколебал ты нас, — равнодушно протянул Милашевский. — Пустой ты человек, никчёмный. Ни на что решиться не можешь — ни на зло, ни на добро. Может, и не зря на тебя медаль повесили, а по-нашему, так кому-нибудь другому лучше бы дали. Ты всё равно аванс не отработаешь, никакого поступка для того, чтобы, наконец, стать кем-то, не совершишь, так на кой чёрт такая жизнь? Лучше удавиться.
— А если удавлюсь, что будет? Отработаю я свой аванс?
— Это с какой точки зрения посмотреть. Но то, что в первый и последний раз ты получишь в своей жизни главную роль, — в этом можешь не сомневаться.
Главную роль хотелось. Давиться было страшно. Пётр Иванович попредставлял, как это — его не будет. Не получилось. Наверное, из-за того, подумал он, что поскольку меня не будет, так и представить сложно, как весь мир будет жить. Ведь я — это и есть окружающий мир, и существует он только благодаря мне. Даже эти двое существуют только потому, что существую я, как только меня не станет — не будет и их.
— А если предположить, что мы и без тебя будем? — снова желчно усмехнулся Акакий Акакиевич.
— Как это?
— А ты никогда не задумывался, что мы — это две самостоятельные личности?
— Вы же сами сказали… — опешил Пётр Иванович.
— Мы пошутили, — сказал Милашевский. — Ты не нужен для нашего существования.
— А тело? — робко поинтересовался Пётр Иванович.
— А зачем нам тело? — сдерзил Милашевский. — Нам твоё тело — тьфу. Мы сами по себе.
Если тело им не нужно, снова задумался Пётр Иванович, то получается, что, убив себя, я только выиграю. Во-первых, избавлюсь от оболочки, которая ничего, кроме проблем, не приносит. Тело надо кормить, обихаживать, мыть. Кроме того, тело моё совсем никчёмное — некрасивое, негибкое, и бок болит последнее время. На главные роли моё тело никогда не утверждают, потому что… Может быть, потому что я располнел, покрылся морщинами? М-да… У отсутствия тела есть неоспоримые преимущества. Мне не нужно будет зарабатывать деньги, мне больше не потребуются квартира, одежда, еда.
И, что греха таить, две мои внутренние ипостаси гораздо мудрее, сильнее и возвышеннее, чем я сам. Значит, по их словам, только после смерти я и смогу исполнить свою главную роль…
Пётр Иванович представил, как он идёт в толпе, огромной толпе, людском море. Все в чёрном, и на этом всеобщем чёрном неистовствует пламя цветов. Женщины плачут, мужчины еле сдерживаются. Сам он над головами людей в алом гробу. Нет, лучше в чёрном — так… кто шипит: гламурнее? Трагичнее так! Лицо воскового цвета красиво оттенено чёрной, да, чёрной бабочкой и чёрным фраком. И это умиротворённое благородное лицо дарит последнюю лёгкую улыбку зрителям. Глаза закрыты, но все понимают, что он просто обратил усталый взор внутрь себя, и от этого делается в тысячу раз грустнее. А потом они будут бросать на гроб землю и цветы, и, возможно, в какой-то момент над головами раздастся несмелый хлопок, и через секунду вся тысячная толпа взобьёт воздух овациями, сдавит пространство до бешеного сердцебиения и вскипания крови, выхлестнет из глоток вопль «браво!», «брависсимо!».
Пётр Иванович вытер слезу умиления. Стало даже завидно, но он вовремя одёрнул себя. Он же не сумасшедший. Милашевский и Акакий Акакиевич во время сцены похорон тактично молчали. Может быть, кто-то из них (скорее всего эмоциональный Милашевский) тоже смахивал слезу.
— Ну что думаете? — сквозь слёзы спросил Сергеев.
Милашевский и Акакий Акакиевич не отвечали. Это было им несвойственно, и Пётр Иванович пришёл к выводу, что собеседники целиком и полностью согласны с ним.
Осталось выбрать день и сделать так, чтобы всё сложилось красиво.
Новый пиджак, пошитый по случаю вручения медали, имеется. Медаль Пётр Иванович не снял — она отсвечивала тусклым золотом во мраке гардероба, порезанного на неровные куски остриями щелей. Белая рубашка с несколько засаленным воротничком была отнесена в прачечную, и через несколько дней Пётр Иванович получил её тугую и накрахмаленную. Главной проблемой оставалось письмо, которое он непременно должен оставить для журналистов и коллег.
Пётр Иванович писать не любил и не умел, но в результате долгого мучительного творчества, несколько ночей истязавшего его плешивую голову, родилось вот что.
«Я, как истинный артист, решил прервать свою карьеру на взлёте. Государство меня ценит — совсем недавно мне вручили медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством», коллеги уважают и любят, публика благоволит, а без театра я не представляю себя. Кажется, нет причин для того, чтобы добровольно оставить этот мир. Но именно так и должен уходить талант — внезапно, по-английски, ни с кем не простившись и не прикрыв дверь. Только лёгкий ветерок будет напоминать людям о том, что когда-то на этой земле жил человек, сыгравший множество ролей. Не плачьте — он вернётся к вам в воспоминаниях, в запахе весенней травы, в образах героев. Может быть, смотря какую-то пьесу, вы вдруг поймёте, что главный герой — это он, и нахлынувшее чувство будет так сильно, что вы не сможете сдержать слёз…»
Пётр Иванович не заметил, как перешёл на третье лицо — особенно возвышенную форму общения с читателями:
«Он уходит от вас, как уплывает в осеннее свинцовое небо белый парус. Он оставляет ослепительный след, который ещё долгое время не даёт глазам успокоиться и как будто бы рассекает сизые волны остриём невидимого клинка. Он прощается с вами навсегда, но остаётся незримым легкокрылым ангелом. Засим прощайте. Ваш Акакий Акакиевич — Пётр Иванович Сергеев-Милашевский».
— Неплохо, — сказал Милашевский. — Ты чего, правда, решился? Или так?
Пётр Иванович не удостоил его ответом. Он был слишком душевно растерзан,
чтобы растрачивать себя. Тем не менее, слёзы над собственным письмом не сбили его
с абсолютно рациональных размышлений о том, как трепетно всё будет вершиться.
После долгих раздумий, приводить которые здесь нет смысла, Пётр Иванович решил, что перережет себе вены в тёплой ванне. Он где-то когда-то читал, что это самый безболезненный способ самоубийства. Человек медленно, по каплям, теряет кровь, пока, вконец обессиленный, не засыпает. Ни боли, ни страданий, только умиротворённая улыбка и закрытые глаза.
— Ты чего, серьёзно? — вновь подал встревоженный голос Милашевский.
— Правда, заело? — вторил ему Акакий Акакиевич. — Ты пойми, что мы же так просто, философствовали. Ну, как можем мы, посуди сам, существовать отдельно от тебя. Мы же часть тебя. Мы — это ты, а насчёт остального — ты забудь, мы шутили…
— И часто вы так шутите? — наконец ответил Пётр Иванович. — И часто вы себе позволяете выставлять меня дураком перед самим собой? Баста! Я считаю ваши доводы относительно моего ухода из жизни вполне убедительными. Поэтому в скором времени воспользуюсь вашими советами. Только давиться не буду, это уж миль пардон. А вот вены себе вскрыть в горячей ванне — это вариант.
— Пётр Иванович, не блажи, — расстроился Милашевский. — Мы жить хотим.
— А я — нет! — парировал Сергеев. — Если вы не считаетесь с моим мнением, почему я должен считаться с вашим, а? Вот ты, Акакий Акакиевич, ответь, ты умный человек, мудрый, можно даже сказать: что поменяется после моей смерти? Что изменится в этом мире? Может, планеты перестанут крутиться вокруг орбит, может, солнце погаснет, всё человечество умрёт? Что молчишь? Не успел сочинить? Так не трудись — я сам прекрасно знаю ответ: всё будет как раньше. Перед открытием занавеса, так же как и после его закрытия, ничего в зале не меняется. Остаётся только здесь — он стукнул себя по груди. Я сыграю свою главную роль, чтобы остаться в воспоминаниях. Иначе я действительно умру. Навсегда.
— Ой-ой, — не выдержал Милашевский. — Как пафосно!
— Пошёл на… — грубо ответил Пётр Иванович. Впервые он позволил себе такой тон в разговоре с собеседниками.
Милашевский умолк. Акакий Акакиевич тоже молчал — соблюдал корпоративную этику. Несколько минут Сергеев бурчал про себя, что, мол, надоели ему нахлебники, но потом стало скучно, и он позвал сначала Милашевского, а когда тот не откликнулся, Акакия Акакиевича. Так и провёл весь вечер в одиночестве, не дождавшись, пока кто-то появится. Он надеялся, что до завтрашнего вечера ещё увидится с приятелями. Назавтра, в пятницу, он запланировал уход к иным берегам.
Выбирая день смерти, Пётр Иванович руководствовался сугубо практичными вещами. До понедельника его никто не хватится. К тому времени он будет мёртв окончательно и бесповоротно. У соседей в выходные тоже свои дела, никому из них не придёт в голову стучаться за солью к угрюмому соседу, вместо того чтобы прогуляться до магазина. Телефон он на всякий случай выключит.
Весь следующий день Милашевский и Акакий Акакиевич тревожно молчали, временами болезненно покалывая Сергеева чем-то острым в грудь, желудок и пах. Пётр Иванович старался не обращать на это внимания, тем более что был занят какой-то сутолочной деятельностью. Сначала выяснилось, что накануне запил главный инженер, и Сергеева попросили помочь рабочим повесить задник к генеральной репетиции. Он стоял внизу и командовал, в какую сторону сдвинуть декорацию, отчего ощущал собственную значимость. Потом молодёжь из кордебалета куда-то спрятала его пиджак с медалью (он решил покрасоваться в нём последний день), и Сергеев долго метался по гримёркам, выясняя, где мог забыть сокровище. Нашёл его подвешенным на самый верх вышеупомянутого задника. Долго искал рабочих, чтобы те сняли пиджак. Потом ходил обедать с Лялей — Оленькой Валентиновой, — он выделял её из всех и считал, что она очень талантлива. За обедом поговорили о том о сем, разошлись: Оленька — репетировать, Сергеева позвал главреж, чтобы сообщить, что в следующем спектакле ему, увы, роли не достанется, но это ничего ровным счётом не означает, потому что вот уже скоро ему, как медаленосцу и заслуженному актеру…
Потом пришла пора идти домой. Вот тут Милашевский с Акакием Акакиевичем и принялись за него всерьёз — острые иглы впивались не только в сердце и пах, но и в ягодицы, подмышки и икры. От этого Сергеев на какой-то момент вдруг потерял способность передвигаться, но быстро пришёл в себя и поспешил по темнеющей улице на приближающуюся маршрутку.
Дома уже был подготовлен реквизит к главному представлению его жизни. На подзеркальнике в ванной лежала наточенная опасная бритва… Есть Сергеев не стал, чтобы непроизвольно не отрыгнуть, а кроме того, вычистил клизмой кишечник и хорошо помочился — его совсем не радовало плавать два дня в собственных экскрементах. Он поставил рядом с ванной стул, на спинку повесил пиджак с медалью, сел.
— Собственно, вот и всё, — сказал он Милашевскому и Акакию Акакиевичу. — Давайте прощаться.
— Сволочь ты, — сказал Милашевский. — Я знать тебя не хочу.
— Ну, а с другой стороны, — подал реплику Акакий Акакиевич, — почему бы нет? Наш милейший Пётр Иванович давно исчерпал свой человеческий ресурс. Он как старая батарейка, которая производит видимость жизни, подтекая кислотой, а вставь её в устройство — не заработает. Может быть, на том свете он обретёт смысл.
— Мне плевать, — сказал Сергеев, — плевать, что будет на том свете. — Я хотел самореализоваться на этом. Но вы сами упорно твердили, что, кроме, как умерев, я не смогу сделать это. Я честно пытался, играл, но, глядя правде в глаза, кто меня ценил? Кому я нужен? Сегодня главреж сказал, что не даст мне даже крохотной роли в следующем спектакле. Ну и какой я после этого заслуженный артист?
Тут Сергеев обнаружил, что держит в руках предсмертную записку. Он собирался положить её на стул, но бегло перечитал, порвал на мелкие клочки, дотянулся до унитаза, выкинул бесполезный мусор и спустил воду.
— Я не пойду у них на поводу! И у вас не пойду. Да, такой ценой я сыграю свою главную роль, но это будет действительно самая главная, самая почётная и красивая роль из всех, что у меня были… На меня будут смотреть, плакать, дарить цветы. Я буду главным действующим лицом!.. Засим прощайте.
Сергеев заткнул ванну пробкой и на полную мощность включил напор. Вода быстро заполнила полагающийся ей объём. Пётр Иванович не спеша снял рубашку, брюки,
майку. Аккуратно, излишне неторопливо, сложил всё это на стул и прямо в трусах залез в воду — в последний момент ему показалось неприличным, что кто-то посторонний увидит его гениталии, — взял бритву и осторожно сделал надрез на руке.
Хлынула кровь. В первую секунду он испугался и зажал рану руками, но потом устыдился малодушия и сделал ещё два надреза. Пока достало сил, положил окровавленную бритву на одежду, закрыл глаза и стал ждать успокоения.
Акакий Акакиевич и Милашевский молчали. Сергееву показалось, что они покинули его, ушли к другому, чтобы в чьей-то иной голове вести теперь свои путаные диалоги. Но потом вдруг он не просто почувствовал — увидел их. Они сидели перед пустым залом на большой сцене — Милашевский ближе к авансцене, Акакий Акакиевич у голубого задника с нарисованными облаками. Милашевский предстал полным красивым человеком.
На лице у него красовались пышные усы, и весь он, включая эти усы, голубые глаза, красивые белые руки, излучал невероятный шарм. Акакий Акакиевич был одет, как и полагается всем Акакиям Акакиевичам, в серую шинелишку, потёртый цилиндр прикрывал лысую голову. Он покачивал ногой, и голова его покачивалась в такт ноге, а может быть, наоборот — нога следовала за головой: кто их, буддистов, разберёт?
— Эй вы! — крикнул Сергеев из зала. — Что играете?
— Жизнь твою играем, — ответил Акакий Акакиевич. — Да ты, Пётр Иванович, что-то подзапоздал, спектакль заканчивается.
С двух сторон сцену стал заслонять большой бархатный занавес, пока совсем не скрыл задник с голубыми облаками, Милашевского и Акакия Акакиевича. Сергеев остался совсем один в пахнущем пылью тёмном зрительном зале.
Во вторник его хоронили.
Главреж, узнавший в понедельник от сотрудника милиции, какое случилось несчастье, тут же стал собирать деньги и театральную общественность на похороны. На деньги, найденные в квартире Сергеева, приобрели домовину, обитую красным бархатом, и арендовали помещение, где зал для гражданской панихиды, как в книжке-раскладушке, немедленно трансформировался на следующей странице в пиршественное помещение, обратно пропорциональное цитате про гроб и стол. Актёры уже готовились выпить, закусить, и кое-кому за это было велено произнести речь. Покойный, к сожалению, не оставил предсмертного письма, и для общественности, в том числе высоких гостей, которые должны были прийти на последний поклон к усопшему, нужно было представить всё в лучшем виде. Чтобы ни у кого не возникло крамольной мысли о причинах ухо-
да из жизни медаленосца, главреж переписал приказ об утверждении актёрского состава в следующую постановку, где сделал Петра Ивановича Сергеева (Милашевского) главным действующим лицом, и все согласились хотя бы на бумаге уступить ему главную роль.
Всё шло так, как он задумал, однако за несколько часов до похорон случился непредвиденный казус. Задёрганному главрежу позвонили и сообщили, что через час всем должно прибыть на похороны важного государственного лица — там будет в полном составе театральный и политический бомонд, и даже САМ будет ставить за упокой лица свечку в главном храме страны.
Стоит ли говорить, что скорбный поезд развернулся и помчался в совершенно ином направлении — туда, где вся столица (и ближайшие окраины) скорбели о достойном муже. К Сергееву были приставлены несколько рабочих сцены, которые постояли у могилы, с удовольствием выпили и закусили, помянув покойного точно уж не один раз, а потом растворились в непонятно откуда взявшемся празднике с обильной закуской и выпивкой. По собственной инициативе пришла проводить усопшего только Оленька Валентинова. Она положила на свежую могилку Сергеева цветок и утёрла слезу.
— Ты знал, что так будет? — спросил Милашевский.
— Ну да, — ответил Акакий Акакиевич.
— Эй, — сказал Милашевский, — Сергеев, тебе всё видно? Да ладно ты, не дуйся, пошли в кого-нибудь ещё поиграем! Мы тебя научим вмиг, правда, Акакий Акакиевич? Не отставай, Серге-е-е-ев!
Комета
«“Комета” кончилась», — подумала Зоя Даниловна. Она всегда полагала, что телевизионная реклама намеренно искажает смысл слов, поэтому названия порошков, гелей, кремов и мазей в её лексиконе отличались от тех, под какими их знало подавляющее большинство населения.
— Вчера купила «Прилив». Опять подорожал, — сообщала она соседке Марусе.
Маруся, привыкшая к странностям Зои Даниловны, не обращала на её слова внимания — в сущности, кому есть дело, что у бабульки в собственной приватизированной квартире тихо съезжает крыша. А в англо-русский словарь Маруся даже в школе не заглядывала.
Сегодня Зоя Даниловна пошла покупать «Комету». Обычно она брала эконом-вариант, в пакетиках, которые потом пересыпала в стеклянную банку. Зоя Даниловна любила чистоту и американскую компанию «Проктор энд Гэмбл» за качественные моющие средства.
Зоя Даниловна не спеша оделась, натянула удобные тенниски и пошла вниз, игнорируя лифт. Жила она на девятом этаже, но всегда старалась подниматься и спускаться пешком.
На улице было солнечно и тепло, что соответствовало календарной дате — 6 мая. Скоро праздник, на который Зоя Даниловна собиралась пригласить подруг. В холодильнике ради этого случая уже пребывали дорогая копчёная колбаса и водка. Рынок распола-
гался недалеко, но Зоя Даниловна старалась не торопиться: ей хотелось пройтись и насладиться первыми запахами молодой листвы. И на девятом десятке лет она не перестала удивляться ежегодной регенерации природы, и каждая весна являлась для неё как откровение. Наверное, так и выглядело счастье.
Зоя Даниловна, внимательно поглядев по сторонам, пересекла автотрассу и потрусила к знакомой торговке бытовыми принадлежностями. За время общения с бабулей одна та понимала, что хочет Зоя Даниловна.
— Мне «Комету», Любаша, — сказала бабуля, доставая кошелёк, и получила в точности то, что хотела, — маленькую в жёлто-зелёной упаковке, лимонную — свою, маленькую, личную комету. Она раскланялась и решила ещё побродить по рынку, может, купить печенья к чаю.
Вдалеке что-то выкрикивал мальчишка, потом замолк. Зоя Даниловна нежилась в лучах весеннего солнца, щурилась и ловила первое тепло. Как вдруг…
Ох уж это вечно неожиданное «как вдруг», резкое для слуха и сознания. Чего стоит, например, ЭКГ. Но ЭКГ — всего на шестьдесят процентов состоит из согласных, а «как вдруг» — на все восемьдесят…
…как вдруг кто-то с силой дернул её сумочку, и вот уже нет в руках привычной тяжести. Зоя Даниловна открыла глаза и увидела, что по направлению к тёмной арке бегом удаляются двое парней. Зоя Даниловна оглянулась по сторонам, но покупатели и продавцы, похоже, не заметили инцидента. Или нарочито страстно заинтересовались гнусным китайским барахлом — розовыми кофтами, мохрящимися спортивными штанами, резиновыми кроссовками?
Так не замеченная никем Зоя Даниловна тихонько потрусила за парнями в арку. Она не спешила: деваться ублюдкам всё равно некуда — арка глухая, и эти двое были на-столько уверены в своей безнаказанности, что сами загнали себя в западню…
Никто, даже лучшие подруги, не знал, кем была Зоя Даниловна на войне. Думали, медсестрой. А она и не рассказывала, что командовала подразделением морской пехоты, и была единственной женщиной в этом роде войск. Дома, среди особенно ценных бумаг, военных треугольничков и «сгоревшего» ваучера, хранился полуистлевший блокнот в кожаном переплёте. На его бурых от пятен крови страницах Зоя вела счёт убитым немцам. Да не просто убитым из винтовки, как у снайперов, — ха, это было бы слишком просто! — а убитым различными способами. У одного она вырвала сердце, другому размозжила лопаткой голову, третьего на бегу ухватила за гениталии и проткнула штыком до самых гланд. За голову Чёрной Вдовы, как называли её немцы, давали тысячи рейхсмарок, но никто не сумел Зою даже ранить, как будто ангел простёр над Зоей свои крылья.
Он никуда не делся, этот ангел, и сейчас летел следом за ней, в подворотню, легко и неслышно, хотя кто-то мог подумать, что всего лишь лёгкая тучка заслонила солнечный свет.
Они делили её деньги. Двое подонков с пустыми белесыми глазами — наркоманы, не побрезговавшие двумястами старушечьими рублями. Она немного постояла у арки, отчасти, чтобы успокоить застучавшее сердце и обрести хладнокровие, отчасти, чтобы правильно оценить диспозицию. К сожалению, при ней не было никакого оружия — ни штыка, ни кортика, иначе всё закончилось бы для парней в считанные секунды.
Зоя Даниловна шагнула в темноту. Тот, что стоял ближе к ней, развернулся и осклабился: в пустых глазах отразился солнечный луч. Он дёрнул за рукав другого, который был занят тем, что страстно потрошил сумочку.
— Бабуся пришла, молочка принесла, — проблеял наркоман. — А ну вали отсюда, п… старая!
Зоя Даниловна молчала, привыкая к темноте и медленно поворачиваясь к парням боком.
— Сказано, е… по-быстрому, а то щас уделаем.
Она плотнее сжала маленькие сухие кулачки, ежедневно тренируемые эспандером. Наркоманы молчали. Она подозревала, что на этом их словарный запас исчерпан, а значит, оба сейчас перейдут в наступление.
«Запомни, Зоя, — говорил ей Иван, её первый командир, которого фашисты в сорок третьем сожгли заживо. — Сила иногда бывает и в слабости. Противник всегда недооценивает того, кто, как ему кажется, беззащитнее. Поэтому почти всегда проигрывает. Тебе повезло, ты женщина, и всегда пользуйся этим».
Теперь она была ещё и старой женщиной.
Наркоман прыгнул к ней, одновременно занеся руку для удара в лицо. Зоя Даниловна немного отклонилась, пропуская кулак, а потом что было сил рванула за руку, подсекла и, не без усилия, кинула через бедро. Наркоман упал, и она, не давая ему опомниться, ударила ногой в лицо, ещё и ещё. Хрустнуло.
За спиной Зоя Даниловна услышала щелчок перочинного ножа и боковым зрением уловила движение второго выродка. Этого она вырубила ударом ноги в пах — он не успел даже вскинуть оружие. Наркоман согнулся, и Зоя Даниловна ударила его сплетенными руками в основание черепа.
Перед ней лежали двое, потерявшие сознание, но живые. Поодаль валялась сумочка, пустой кошелёк и желто-лимонная пачка, частично разорванная, — видимо, парни решили, что там наркотик. Денег Зоя Даниловна не обнаружила, а карманы нападавших обшаривать побрезговала.
Она подобрала сумочку, сунула туда кошелёк. Увы, «Комета» никуда не годилась — половина уже просыпалась на грязную землю, а дыра в пакете так велика, что уже не оставалось никакой возможности донести пакет до дома. Зоя Даниловна обозлилась: разве не «Комета», которой она теперь не может пользоваться, стала причиной её сегодняшнего приключения?! Она подняла пакет и наклонилась к лежащим: пусть помнят Черную Вдову…
Десятого мая, сразу после праздников, Зою Даниловну разбудил звонок в дверь. Накануне они с подругами ели пирог, выпили немного водки, поели колбасы, посмотрели праздничный концерт. О происшествии Зоя Даниловна не стала рассказывать, постаралась только выпроводить захмелевших подружек пораньше, пока не зашло солнце, а перед сном обзвонила всех, спросила, как добрались. Легла она спать в самом прекрасном расположении духа, а утром — вот незадача — кто-то прервал её сон бесцеремонным звонком…
— Ой, — сказал молодой лейтенант милиции.
— Ой, — насмешливо подтвердила Зоя Даниловна. — Тебе чего?
— Я участковый ваш, здрасьте. Мы тут следствие ведём. Нужно пару вопросов…
— Проходи. Я Зоя Даниловна. Тебя как величать?
— Иван. Петрович.
— Проходи, Иван. Петрович. Чай будешь?
— Не, я при исполнении… Зоя Даниловна, шестого числа, рядом с вашим домом, на рынке нашли двух молодых людей. Убитых. Зверски. Вот, может, узнаете их?
— Нет, — сказала Зоя Даниловна, бросив взгляд на фотографии. — Не знаю. А чего это у них во рту синее такое?
— Я же говорю, зверски убиты. Кто-то их избил сначала, а потом, пока они бесчувственные лежали, насыпал в рот порошок «Комет», которым раковины чистят…
— А парни-то, поди, наркоманы?
— Наркоманы, — охотно подтвердил Иван Петрович.
— Я вот почему пришёл-то, — вдруг добавил он. — Несколько человек в день их смерти видели, что эти парни сумочку у старушки на базаре вырвали. По фотороботу вас опознала продавщица, которая вам порошок продала.
— Неужели? — вскинула брови Зоя Даниловна. — И никто из тех, кто меня вспомнил, даже не помог тогда? Ай-ай-ай. И что теперь, вы меня подозреваете? И как вы себе это представляете? Я, на девятом десятке бабуся, зверски убила двух молодых здоровых парней. Не смешите меня, молодой человек.
— М-да, — произнёс лейтенант. — Ошибочка вышла… А, позвольте спросить, сынок ваш с вами проживает?
— Какой сынок? У меня детей сроду не было. Вот, гляньте, паспорт. Ни мужа, ни детей.
— А гирьки с эспандером чьи? — поднял брови Иван Петрович.
— Мои. Тренируюсь потихоньку, чтоб старая кровь не застаивалась. Они легкие — по пять кило, даже ребёнок поднимет. Может, выпьете немного чаю, у меня пирог остался и колбаска после вчерашнего праздника.
— Ой, нет, надо бежать, — поднялся участковый. — С праздником вас прошедшим!
Уже у порога обернулся.
— Вы пока на рынок не ходите, — наклонился он к Зое Даниловне. — У этих двух дружки остались, мало ли что. Ну, до свидания.
«Наша служба и опасна и трудна», — спускаясь вприпрыжку вниз, мурлыкал Иван Петрович.
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n1c48/






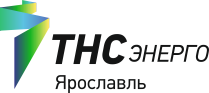



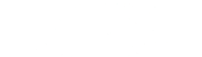
Комментарии: