Магическая линия Бориса Григорьева
На здании Волжско-Камского банка в Рыбинске в канун Дня города появилась памятная доска – в этом доме провёл свои детские годы известный любителям живописи во всём мире художник Борис Григорьев. Но на своей Родине, к сожалению, он почти неизвестен. И нет в этом нашей вины. Растерзанная и разорванная история страны – «советская» и «досоветская», с запретами и идеологическими правками, долго не позволяла нам познакомиться с талантами русского зарубежья, которые заслуживают уважения и признания.
Русский европеец с «сумасшедшинкой», несговорчивый и резкий, насмешливо-саркастичный, ироничный и мечтательный – таким разным видели Бориса Григорьева современники. Для того, чтобы понять, что Григорьев – гений, не нужно подробно изучать творчество живописца, достаточно увидеть одну его линию – плавно-изящную, таящую в себе нечто, не поддающееся анализу. Линия Григорьева улавливает гармонию мира и непостижимым образом передаёт её нам.
Борис Григорьев родился в Москве в 1886 году в незаурядной семье. Его мать, Клара Ивановна Линденберг, шведка по национальности, родившаяся на Аляске, была образованна, знала три языка, много читала, любила музыку и была моложе отца на 30 лет. Отец, Дмитрий Васильевич Григорьев, был выходцем из семьи разорившегося волжского купца. Но сумел получить образование, должность, а впоследствии стать почётным гражданином Москвы. У Бориса было четыре брата и сестра.
В Рыбинске семья оказалась в 1894 году – отец был направлен бухгалтером в Волжско-Камский банк. Сначала Григорьевы жили на Мышкинской улице, а когда Дмитрий Васильевич стал управляющим, переехали на набережную и сняли 12 комнат на втором этаже здания банка. Мать сумела создать в семье творческую, радостную атмосферу: в комнате мальчиков устроили сцену, на которой постоянно шли домашние спектакли, дети музицировали на разных инструментах, любили и сами пойти в театр, где семья постоянно оплачивала ложу.
От своих братьев Борис отличался повышенной возбудимостью и чувствительностью, в гимназии учился плохо, доставляя родителям много огорчений. На его ранний живописный талант внимания не обратили. А он в 11 лет прекрасно копировал большие полотна известных художников. Слова матери: «Знаю я, что толку из тебя не будет» – он вспомнит спустя много лет в своей поэме «Расея». Но школьные неприятности никак не омрачали любовь матери и сына. Прожив жизнь, он поймёт, что ту глубину материнского чувства не смогла превзойти ни одна его взрослая любовь: «…сколько б я их ни любил – обладают лишь одной акульей кожей. И ни в чём на нас с тобою не похожи…». Мать на всю жизнь – «роза белая моя», «рублёвского письма икона». Как знать, рассуждали бы мы сейчас о большом художнике, если бы не та большая материнская любовь, укрепляющая душу, дающая жизненную силу и уверенность в себе.
Отец мечтал видеть Бориса коммерсантом и отправил его учиться в Московскую практическую академию. Три года сын старался не посрамить отца, но в 1903 году бросил малоинтересную учёбу, поступив в Строгановское училище. Его кумиром стал Д. А. Щербиновский, который только вернулся из Парижа и поражал молодёжь Строгановки свободой взглядов и внешним видом. Но больше эпатажа Григорьев ценил в своём учителе мастерство. «Щербиновский взял карандаш. Поставил его на верху бумаги, где начиналась шея, и повёл линию, повёл непрерывно до самой щиколотки. Остановившись на мгновенье, он завернул пятку и обчертил ступню. Потом он ещё долго рисовал, но я уже ничего не видел – со мной что-то произошло… Я понял что-то раз навсегда. Линия, совсем просто проведённая кривая от шеи до пятки, непрерывная линия. Об этой-то линии я и мечтал! Но линия была не шутка. Сам мэтр никогда потом не повторил той божественной линии», – так вспоминал Борис Дмитриевич о главном уроке всей своей жизни. Ни одна школа, ни один художественный класс, куда приведёт его жажда познания, не дадут больше, чем это первое озарение.
В 1907 году вместе со своей молодой женой Елизаветой фон Браше Борис отправляется в Петербург, чтобы продолжить учёбу в Академии художеств. Он переходил из мастерской в мастерскую, впитывая в себя знания и никак не находя своего почерка. Он дружил с Хлебниковым, бывал у Ходасевич, Евреинова, Тэффи.
Его интересует фольклор, волнует крестьянская тема. Рисунок Бориса передаёт русский быт без прикрас и сентиментальности. Для отражения крестьянской России он использует гротеск. «Каждый пишет, как он дышит». Почему именно так видел Григорьев? Может быть, над ним довлели детские впечатления, вынесенные из «столицы бурлаков»? Ведь этим званием Рыбинск мог гордиться только в советское время, когда воспевали любых «трудящихся» и нищих прошлого. Но истинное положение вещей – страх добропорядочных горожан перед беспредельной «Вшивой горкой», местом обитания безработных бурлаков, – не обсуждалось. А ведь Григорьев жил не так уж далеко от этого «прекрасного» места и на улице мог видеть такие типажи, которые наложили неизгладимый отпечаток на восприятие русского быта. Критики же видели в гротескном восприятии крестьян проявление душевного строя художника. А. Н. Бенуа писал: «Противоречия этого странного характера многих шокировали. Многие боялись Григорьева, считали его за какого-то опасного скандалиста… Почти всегда Борис поступал и говорил так, как ему подсказывали далёкие от здравого смысла побуждения». На этих «добрых» словах многие рыбинцы, которые с любовью называют родной город «аномальной зоной», думается, с удовольствием признают в Григорьеве своего.
Любовь к театру и театрализации, разбуженная в детстве, нашла у начинающего художника оригинальное воплощение. Григорьев работает над театральными декорациями и сценическими костюмами. Вся жизнь – карнавал. Теперь излюбленный гротеск получает новое направление – цирковые и танцевальные мотивы. С таким багажом он отправляется в Европу, сначала – в Париж, потом – в Швецию и Норвегию. С того времени зарубежные путешествия становятся неотъемлемой частью его жизни.
Он становится блистательным рисовальщиком, участвует во многих выставках, вызывая противоречивые отзывы критиков. Работа в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе», которые он иллюстрирует, вновь заставляет вспомнить о гротеске. Его манера настолько интересна и узнаваема, что у него появляются многочисленные подражатели. Это успех, признание.
Григорьева, знавшего себе цену, всегда притягивали талантливые люди, наделённые Божьим даром. Он писал портреты известных современников, и некоторые из них оставались недовольны, но он стоял на том, что не умеет льстить и пишет то, что кажется ему правдой. Наиболее удачными он считал портреты Мейерхольда и Шаляпина и признавался, что лишь дважды в жизни «так наскакивал на холст». А о Шаляпине писал: «Я увидел в нём такое, чего не увидишь ещё один раз. Львица, Цезарь, актёр, ключник… Он лежал в пунцовом халате… Горы в плечах, в бедрах. Бугры на лице, на шее, на ногах. И во всём – сила, движение… Всё живёт и прёт. Глаза из-под светлых бровок глядят хитро, мудро, ласково. Светят и хотят вас, искусства, силы. Но они и требуют. Они властно приказывают… «Пусть неудачник плачет» – слышу его творящий голос».
Через портрет Григорьев переходит к сюжетной живописи, которая ярко проявилась в большом многолетнем цикле «Расея», посвящённом русской провинции. Цикл появился на волне революции, принёс художнику известность, дал работу. До 1919 года Борис Григорьев преподавал, занимался книжной графикой, участвовал в крупных выставках. Никаких политических разногласий с новой властью у него не было. Но Гражданская война, тяжёлый быт и появившиеся идеологические противники в 1919 году «вытолкнули» его за границу. Вместе с семьёй он переплыл на лодке Финский залив и оказался в Териоки, затем в Берлине, где было много русской интеллигенции.
Двадцать лет эмиграции Григорьев провёл в путешествиях – утрата Родины заставляла его постоянно искать что-то своё, близкое. Но уже в 1924 году он напишет: «Я болею только русской судьбой, я считаю настоящей только русскую жизнь». Своих товарищей по эмиграции не жалует: «Забыли мы здесь честное русское слово. Какая торговля совестью! И русских критиков узнать нельзя. Из «учёных» и «святых» стали как есть. Хуже всего те, кто сыты – это шипящие змеи… Мы уже искрошили себе зубы от злости, зависти и тоски – бедные и стали домашними зверями в странах, нас приютивших».
В 1923 году новая страница жизни – Америка. Там в Борисе видят прежде всего русского, который отражает «загадочность» непонятной нации. Лишь в последнее десятилетие жизни он освободился от «расейских» образов, погружаясь в чистое искусство, где общечеловеческое выше национального.
Последняя выставка Бориса Григорьева состоялась в 1938 году в Нью-Йорке. Он ушёл с её открытия, почувствовав себя плохо. А в письме другу Сергею Судейкину написал: «Как удивительно я устал на этот раз от Америки – чувствую себя смертельно заболевшим, но знаю, что это пройдёт. Вижу Бродвей, свою улицу, своё ничтожество – и мне кажется, …что я уже умер и гляжу на жизнь в щёлочку гроба». Ему оставалось совсем немного.
Точка в живописи Григорьева – последний автопортрет. Нет в лице того недоверия, сомнений, настороженности, готовности к быстрому отпору, которые были присущи его предыдущим изображениям. Перед нами иной Григорьев, с любопытством вглядывающийся в самого себя. «Познай себя – и ты познаешь мир». Умер художник в 1939 году, когда ему было всего 52 года. Похоронили Бориса Григорьева в маленьком городке Кань-Сюр-Мер, близ Ниццы.
Семья художника осталась во Франции, жена пережила его почти на 30 лет, а сын Кирилл умер в 2001 году. Коллекция работ Григорьева разошлась по частным собраниям.
Его возвращение в «Расею», так безнадёжно любимую, началось в 1989 году. Искусствовед Римма Никандровна Антипова, собрав работы Бориса Григорьева по частным коллекциям и музеям, организовала в Пскове выставку, которая впервые дала представление о масштабе таланта и личности одного из самых значительных художников русского зарубежья.
Вспомнили о талантливом земляке и в Рыбинске. Краевед Владимир Рябой нашёл в местном архиве документальные свидетельства его беспечной детской жизни. С работами русского европейца Григорьева горожан познакомили по-европейски – разместили огромные фотокопии его полотен на улице Ленина, на фасаде плавательного бассейна. Григорьев вернулся в город своего детства.
Кто теперь скажет, чем был для художника Рыбинск? Можно только догадываться, что именно здесь зарождалась та щемящая, трогательная и болезненная любовь к России, которая не оставляла его до конца жизни. И не Волга ли, которую Борис Дмитриевич так часто писал на ранних этюдах, вдохнула в него ту широкую вольность и свободу, без которой не выживает подаренная Богом гениальность.
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n310m/






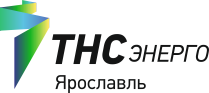



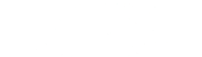
Комментарии: