Евгений КУЗНЕЦОВ. Невозможно расстаться. Из нового романа (Евгений Ермолин. Русское странничество Евгения Кузнецова)
Евгений КУЗНЕЦОВ
Родился в 1953 г. в деревне Костино Рыбинского района Ярославской обл. Окончил факультет истории и права Ярославского университета. Работал следователем, зав. отделом прозы в журнале «Русь» и газете «Очарованный странник».
Автор книг прозы: «Молчаливая история» (1989), «Кудыкины горы» (1991), «Храм на Марсе» (1997), «Быт Бога» (2004), «Чернила в бокале» (2004), «Жизнь, живи!» (2010).
Печатался в журналах «Континент», «Наш современник» и др.
Член Союза писателей России.
Отмечен областной премией им. Л. Н. Трефолева (1993).
Лауреат Всероссийского конкурса короткого рассказа им. В. Шукшина (1999).
Живет в Ярославле.
© Е. В. Кузнецов, 2011
Невозможно расстаться
Из нового романа
Вошло в меня нечто теперь — и словно сразу я лишился того, что прожил, и даже хотения будущего.
Мир — мал…
Мир — мал!..
Вычерпать море ведром не потому никто не берется, что оно какое-то неизмеримо большое, а потому, что… некуда выливать почерпнутую воду: она потечет обратно в море.
Мир мал. Мир — мал.
Ощущение такое: явное — явного!..
Да и — прежде всего… настроение такое теперь.
«Теперь»…
Мир мал, мал.
И вокруг меня, и вообще.
Вокруг — это вот тело мое; оно — тоже мало, мне мало. Столь мало, что я его как бы и не замечаю…
Мир людей, чуть подальше, человеческий мир — тоже мал, даже — тем более.
Ощущение малости мира…
Тоска!..
Гнев…
Капризный детский гнев!
Сквозь сон… от прерывания сна…
Что? Что?..
Звонок!.. о-ой…
Тишина паузы…
И опять он — звонок надсадный.
Возмущение всего, чувствую, пространства комнаты!
Я — сквозь веки — ощутил самую глубь ночи… или, может, самую рань черного осеннего утра…
И еще он…
О-о, да это он… гневный-то!
Я — обмер.
Определил положение моего, под одеялом, тела…
…И — вмиг ощутил ужас бодрствования.
Ужас пребывания — вообще.
«Неужели?..»
«Жизнь в сей час шагнула значительно…»
«Вот она, ощутимая правда!..»
Все эти мысли-чувства — в один единый мой трепет.
Зво-нок…
То есть — понятный!
Я — не зная, подняты ли веки, — уже деловито протянул руку в знакомую темноту.
Светильник... осветил очередной звонок.
И показал моим глазам, что они, да, не спят… и даже, нет, не моргают.
Я опустил другую руку к полу.
Мобильник.
…Да.
Сестра.
Все мелочи пространства передо мной были особенно — зачем-то — четкими.
Звонок… В кулаке…
Смотрел… просто смотрел… ощущая ценность зрения…
Мне сделалось ново; и — жутко ново… никчемность всех видимых предметов… запах пространства.
Жду...
Нет…
…Посмотрел ответственно на тяжелый мобильник.
Запомнил жестко час и минуты.
Ощутил — власть… власть события…
Встал послушно и плавно.
Ощущая совершаемый поступок.
Умылся, утерся.
Ощущая вершимое поведение.
«Три часа, пятьдесят четыре минуты».
Какие цифры значительные!.. Только… почему их можно поставить… в последовательный ряд?.. Зачем это нужно?..
А зачем думается об этом?..
Заварил чай. Стыдясь.
Выпил чашку. Стыдясь.
Признался наконец: с того мига, как посмотрел, кто звонит… думал, во сколько начинают ходить троллейбусы… да еще и, впрочем, — надеялся надеяться…
Открыл шифоньер. Постоял.
Как давно и это, и это не надевал…
Надел самый хороший мой костюм.
Постоял. Стоять было странно.
Сел в кресло к монитору. Просто — темно-зеленому. Так находиться тоже было
странно.
Медленно крутнулся с удобным креслом. Лицом и грудью — к вниманию комнаты… к вниманию пространства…
Положил ладони на колени.
Думал я, думал — молился-молился; и вот мне Бог… меня самого!.. и какого-то — особенного.
Мир — мал.
Как… мал?..
Для кого мал? Для чего мал?
Не для кого-то и не для чего-то, а — попросту мал.
Мал!
Была у меня первая любовь. И — не будет больше никогда этой первой любви, именно первой.
И — ни первой моей детской игрушки, ни первого школьного звонка, ни первой прочитанной книжки… ни первой моей статьи газетной…
И этак — во всем, во всем.
Я, к примеру, таскаю какой-то свитерок, и вроде бы ничего… но ведь он мне маловат… Я втиснусь вон в троллейбус — и уж ощутимо места мне мало…
Я, наконец, болтаю вот с тем и с этим… но ведь они мне — только произнести!.. — малы, малы…
…«Мир мал». — Кому не скажи!
В меня, быть может, и вошло это открытие… от наблюдения… от присутствия
других.
Но — некуда деваться: мир — таков, таков.
…Мир мал.
И чемпион мира — один. И по шахматам, и по боксу. И лишь победив именно его, можно стать чемпионом.
Мир мал.
И если кто-то мечтает, напевая, о том, чтобы кончился наконец неприятный ему век, то понимает, стоит лишь помечтать, чтобы для этого всего-навсего скончался единич-ный вождь.
Мир мал.
И если, например, ловить голых негров на одном континенте, то потом их в трюмах через океан, походя кормя ими акул, можно переправить, для возделывания плантаций, только лишь на другой — той же планеты — континент.
Мал, мал!
Чтоб далеко не ходить: суть любовной (и любимой) народной драмы — из-за тесноты общежития: «Не кричи во весь народ: мой батюшка у ворот…»… а судьба собственно цивилизации — в президентском «ядерном чемоданчике»…
Века — они ведь тоже: обозначают сами себя лишь в арифметической прогрессии… Кстати, нарастающая эта прогрессия вовсе не прибавляет ничего к малости мира.
И если самолет пассажирский, реактивный и аж сверхзвуковой, совершит вынужденную посадку в экваториальный водоем… и пассажиры, избежавшие огня, выберутся, счастливые, из проклятого самолета… в желанную, то есть, влагу — то там их всех сожрут аллигаторы… А что же. — Нет учебников школьных (или — времени и прилежания их штудировать…) о животном мире той части света!.. Нет и у крокодилов другого, столь исключительного, случая, чтоб поместить в свое чрево такое нежное мясо, да еще и почти без волос!..
Кстати о всякой жидкости. Приливы-отливы так называемого мирового океана — всего лишь, по малости мира, от близости небольшой этакой другой планеты — Луны.
Да что там — скоростей космических — всего-то три. И все скорости возможные, опять же — на этом свете, ограничены, по созвучию, именно скоростью света.
Сочтены — все атомы всех металлов и все атомы всех неметаллов.
…Мир мал, мал!
И нельзя певцу звездному проехаться в метро, в автобусе городском, попросту — пройтись по улице.
Кстати, к известности стремление — так как людей на Земле мало; сколько бы ни было — а исчислимо мало; и, стало быть, в самом деле возможна такая ситуация, что на этой планете тебя будут знать без исключения все. А что потом?.. — Тоска. Потому многим чаще всего хватает славы — на всю школу, на весь какой-нибудь город, ну, на всю одну какую-нибудь страну.
То же — и стремление к богатству и к власти. Действительно ведь мыслимо, что все богатства мира людей и вся власть над всеми людьми будут в каких-то одних руках. И — что дальше?.. Над всеми. Только и всего. И — если уж слово «дальше»-то — тоска.
Империалисты стремились строить и строили целые империи, именно всемирные, потому что как раз это осуществить было возможно натурально: мир в самом деле та-ковски мал.
Итак, стыдно быть империалистом…
Гении всех видов и косящие под гениев потому-то и стремились и стремятся к славе мировой, что она реально достижима: мир-то малюсенький.
Скучно быть славным!..
Мир настолько мал, что и в самом деле — решать и даже свершать можно: начать ли войну… произвести ли эликсир молодости… изобрести ли ядерное оружие… лететь ли на другую планету… запретить ли смертную казнь… наболтать ли ребенка в пробирке…
И действительно, действительно — всем и всеми в мире можно манипулировать!
Как заткнутыми в одной стеклянной колбе.
И этим может быть одержим… какой-то пересчитанный тайный клан… или даже и вовсе кто-то абсолютно один.
И при этом, при этом, при этом… всем и заботы нету — хотя бы: так ли это на самом деле!..
Да и не странно: появляется где-то вождь — и сразу там пропадает обыкновенная доброта и личный разум.
Мир мал.
Мир мал — и вокруг Земного шара уже тесно от «космического мусора».
Мир мал и всегда-то был: в научном журнале читаю, что найдены в степи две пули спаянные — они столкнулись полтора века назад, летя в противоположных, стало быть, враждующих направлениях, во время известной исторической разноплеменной битвы: опять же — из-за малости географического, соответственно, пространства.
Мир мал — и нет мира, где бы не было науки.
Мира мал — и нет уже науки, которая бы не изобрела интернет.
Мир мал — и нет теперь интернета, где бы не было, тут как тут, порносайтов!..
Мир мал: у каждого лишь один член; поэтому средства все коммуникативные обе-
щают и препарат для его «ощутимого увеличения». Кем ощутимого? — Разумеется,
прежде всего, лишь его обладателем… ну и, еще дальше, разве что… его обладатель-ницей.
…Да что говорить.
Был, предполагают, — всего-навсего сколько-то миллиардов лет тому — некий «большой взрыв».
Ну а что было до «большого взрыва»?..
Можно бы, и верно, и не мучиться о столь далеком…
Но… где тогда был — я?..
Тоска!
Мир мал, мал…
Сюжет самый святой всемировой — радение о спасении; и таковой — один-единственный.
Смотрю иной раз в зеркало — вижу… кого-то…
Кого когда-то на этом свете не было… кого когда-то на этом свете не будет…
Ведь это — правда.
Реальность!
Притом это правда, которая — прежде всего. Прежде всего.
Вот я заглянул в зеркало-то. А до этого мига меня в этом зеркале не было…
И так же я, родившись, заглянул в эту жизнь.
Меня, меня! — когда-то не было?.. когда-то не будет?..
Мне бы об этом — прежде всего бы и думать! рассуждать! гадать! Ликовать или стенать.
Но — об этом я меньше всего думаю.
Это ли не странно?..
Единственное утешение — если утешение: я — видим, видимый… слышимый, осязаемый, обоняемый; пребываю в этой жизни — в видимой; на этом свете — на видимом.
И что меня — видят!
…Смотрю — теперь-то — в окно.
Одетые люди двигаются на двух своих, значит, нижних конечностях…
И — без тоски малости мира.
Впрочем, вон сцена у подъезда напротив… На легковой машине привезли старуху: с палкой, в пальтеце старинном коротком демисезонном клетчатом; в платке старомодном цветастом… Она — смотрит куда-то вверх, на какой-то, что теперь, напоследок, ее, этаж… А все рядом — смотрят себе под ноги…
Всю жизнь я наблюдал, озадаченный, за старухами, за старушками — существами, прежде всего, загадочными.
Вон снеговая прядь из-под платка той старухи…
…Руки на коленях — и думал о значительности пространства. О приобретении пространства. О лишении пространства.
И об ответственности. Перед пространством.
На часы смотреть страшился.
Ведь они-то — теперь было понятно — как раз о пространстве!..
Ждал звука.
Хотел, чтоб он — раньше?.. Хотел, чтобы — позже?..
Тиканье тикало — и все решало…
Губы высохли.
Чаю еще попить стыдился… совестился.
…С какой-то другой стороны — тоже, как и электрический, снаружи — на зрачки мои струился, брезжа… полупрозрачный, полувидимый… летний солнечный… зеленый, голубой… уютный, теплый… свет, свет… В этом свете, как в сладком прозрачном сиропе, я — в коротких штанишках, в безрукавой рубашке и в большой кепке — тяну руку меж жердей соседского огорода, никак не могу дотянуться, царапая уже и плечо, к орешнику за орехами…
Я подвинулся встать. Но, опять же, счел неуместным… хоть как-то, по поводу самого себя, двигаться.
В этом летнем зелено-голубом уютном сладком свете… передо мною сейчас… залетали еще и руки… знакомые, самые знакомые… умелые… грубоватые… но всегда теплые…
Глаза мои, ощутил, горячие… обновились…
Не надо.
А как надо?..
…Звонок.
Он, увы, возвратился.
Посмотрел на часы.
В самом деле: под окном — чем-то грубым по асфальту.
Звонок...
Мобильник взял.
В кулак.
Встал.
Звонок…
Я — глядя в то место, где окно, — включил.
— Да.
— Андрей…
— Да.
— Мама…
Я ощутил мое тело как тело. И — виноватое, виноватое: за то, что оно — тело, не ощущающее сейчас… ни даже зубной боли, ни хотя бы усталости…
— Что?
— Ночью… В четыре часа…
— Где?
— В реанимацию…
— В какой?
— Больница эта…
Я отключил.
…Вот теперь — нельзя! Ничего нельзя.
Кроме движения.
В прихожей обулся и надел куртку.
Шагнул — как бы включаясь, не забыв о нем, в другое пространство — в комнату и по-обычному поцеловал Богоматерь в глаза.
В прихожей стал надевать куртку.
Мурашки по всему, вертикальному, телу пробежали… Счастья, счастья!..
Я уныло и обреченно… эту вторую куртку стал снимать… с уже надетой.
Слыша… чей-то стон…
…Мир мал — а газета тем более мала.
Поэтому меня тогда и «сократили».
А вовсе не потому — уж как год, — что этот самый «кризис».
Я, во-первых, и заранее знал, что так со мной выйдет. «Уволили по сокращению» тех, как водится, у кого меньший срок тут работы. Нескольких. Образование и опыт, если из того исходить, у всех одинаков. Так что вроде бы порядок.
Но ощущение все-таки новое.
Чувство почти такое же было, когда — лет, значит, двадцать тому — «цены отпустили». Я еще юный был. Ну и перед тем, когда саму страну «распустили».
В природе вроде бы ни тогда, ни теперь ничего не предшествовало и ничего потом не последовало. Так что…
«Сократили» меня, меня — «сократили»…
Слово-то какое!
…И еще. Может — главное.
Я, собственно, этого… как будто и ждал…
«Сократили» — и развязали мне руки.
Для мысли.
И, признаться, в первый же день — мое чувство: а я и не был вполне причастен!
То есть — это я… вас всех сократил. Без кавычек.
Или — по сегодняшнему моему, траурному, состоянию: это газета, газета мне, мне мала.
Уволили — я теперь зато спокоен.
Я теперь не повязан миром, этим самым социумом, суетой. Столь-то прочно: по работе, по должности и профессионально.
Уволили — и ощутил я себя не обиженным, не озадаченным, а… свободным, вернее — более свободным, точнее — на каком-то пути к какой-то освобожденности.
Кстати, кстати. Я, живя один, встал на другой же день… и не стал одеваться!.. Так до сих пор, просыпаясь, и бродил по квартире — это уж сделалось моим утренним ритуалом — совершенно голый.
Но прежде всякого прежде — сама собой освободилась зрящая мысль.
Подтвердилось мое видение, мое виденье!
С ходу — первое, что бросилось в глаза: люди ходят по планете — и не падают с нее, не сваливаются!..
Я — прямо испугавшись — спросил себя: что, что меня более всего волнует?..
Меня уволили. Но это дело обычное, бытовое.
Что — меня, меня лично, лично по моей сути, сию и каждую минуту волнует? И — более бы всего.
С планеты — не сваливаются…
Всемирное то тяготение и прочее — это тоже понятно.
Но все же… странно и страшно…
Хоть бы кто в целом мире когда-либо — об этом подумал всерьез!..
Я сейчас стою на Земле. А на другой ее стороне кто-то стоящий, подняв глаза к небу, смотрит точно… в противоположную мне сторону!.. То есть, выходит, видит Мироздание… теоретически в ином виде.
И… и как-то волнительно с учетом этого жить.
А всем — хоть бы что!..
И я тогда неумолимо еще отметил: после недавнего землетрясения в Западном полушарии… ось симметрии Земли отклонилась, пустяк, на восемь сантиметров… Но, оказывается, атмосфера воздушная и океан водный обычно смещают эту ось на целых три-четыре метра!..
Да я и с детства жил в состоянии… в мировоззрении ожидания: вот-вот будет время подумать — ой, ведь не на плоскости я!..
И, главное-то, — не один же я.
Вот — вот я стою на этой самой планете Земля.
Мои глаза полны зелено-голубого пространства, мои уши полны вольного невидимого ветра, мои легкие полны пахучей живой свободы…
И я — счастлив. Я — насыщенно и утоленно счастлив. Я — как-то… осведомленно и понятливо счастлив. Я счастлив, в конце концов, достигнуто и благодатно!..
Однако…
Разве?!. Разве — после ощущенного — возможно, хоть мыслимо какое-то «однако»?..
Я — во-вторых — вдруг с озабоченностью обнаруживаю, что на планете имеется некоторое обстоятельство… нервирующее обстоятельство, которое выразимо формулой: кроме меня.
Да, на планете есть еще кто-то — кроме меня.
Так и что бы? Раз он, тот, кто подобен мне, тоже полон пространства и свободы — то мне бы радоваться моего ощущения подтверждению. Да и ликовать бы вместе.
Однако… тут оказывается, что это самое «однако»… весьма, по мне, неожиданное…
Активное!.. Пристальное!.. И — нацеленное!
И я… вмиг ощутив суть этого «но» и того, кто кроме-то меня… ощущаю в себе… гнев…
Гнев! — И помутилось прозрачное пространство. Завизжал ехидный ветр в ушах. Тесно заволновалась ненасытная грудь.
Все все за меня решили! — О рождении, о «сокращении», о «кризисе»…
Я-то — как бы не упасть с планеты, а они — как мною командовать!..
И мы, такие-то контрастные… на одной планете!..
…Меня уволили — и я ощутил, что важнейшее насущное, что в жизни может быть: понять, понять — в чем и почему моя свобода и — вообще свобода.
Все — во сне! Все — во сне!
Вот что такое: «современный человек». В смысле, чтоб глубже, — антропологическом.
А — я?!. А мой сон?..
Серфинг!..
В спорте как таковом — это подлинное и эпохальное соитие с природой!.. Красота! — Никогда я не наблюдал человека более красивым. И волна никогда за все время, которое Время, не была столь послушной и понятной!..
Скольжение по волне — его ведь надо еще расшифровать…
Если б волна была уже волной, если б она была … как бы сказать?.. уже готовая — катиться с нее было б нельзя!.. Вот как с сугроба: съехал — и стоишь. Но волна — это то, что ежемгновенно нарождается. И что тебя — ежемгновенно поднимает!..
Вся жизнь — волна.
Может, это — самое удивительное, доступное наблюдению, явление в Природе! — Ведь радиоволны — не видимы.
Это — моя мечта? — Войти бы в такой же лад с целой сущностью Природы.
Отраднее отрадного — и послушно, и умело скользить по волне спосылаемой мне свыше Мысли.
…Маме — маме об этом, о работе, верней — о не-работе, я, конечно, ни слова.
…Снаружи — и сверху, и снизу, и со всех сторон — ощутим был черный снег и, вперемешку, черный дождь.
Равнодушный троллейбус…
Пустой — ненужный — вокзал...
В автобусе кресло было с устройством, под локтем, непривычным… Зачем?..
Через какое-то — воющее, качающееся — время заметил, что сегодня… никого еще не видел. И не слышал. Кроме мобильника.
Такое, значит, отныне — неужели?!. неужели?!. — началось иное пространство.
Вспомнил — прежде всего, прежде всего — все мои чувства-мысли-слова с того мига глубокого звонка…
…Ее теплые и шершавые чуть скрюченные пальцы.
Запах ее седых желтовато-серых все густых волос…
Взгляд ее пестрых, в мелких пежинках, глаз… всегда искоса и бегло… Гордый, но и вопросительный… Вопросительный, но и таки гордый…
Как это все… по-настоящему. По-настоящему!..
Из всего-всего — самое. Самое!..
Вообще, вообще — разоблачающее меня. Парализующее. Обнажающее.
Правдивое до слез. За которые, за единственные, не стыдно. И даже — ни перед кем бы и ни перед чем не стыдно.
И тогда — зачем что-то иное?..
Зачем и для чего это такое менять?..
И почему тогда, как сейчас, все… так?..
…Она идет по дороге ли, по двору ли — прямая, стройная, невысокая; и глаза — всегда себе под ноги. И уж редко, чтоб хотя бы повернула голову в сторону… где там поглазеть — хоть просто посмотреть.
На фото на всех — где она еще молодая, красивая, черноволосая — взгляд ее в объектив чаще искоса и снисходительный… упрекающий, обвиняющий… и — гордый, гордый!..
И конечно, конечно — никого никогда из встречных знакомых, ни даже к нам в дом зашедших, ни о чем не спросит… только, слушая, кивает, на все речи чуть кивает… но и не поторопит — ни в коем случае! — быть покороче, удалиться с глаз долой.
Драгоценно сейчас мне даже и это… внешнее…
Красоту ее лика и внимание ее ко мне беспромашное — помню, как помню себя. Чуть забота у меня, у ребенка, малейшая — и тут как тут ее умелые и теплые глаза и руки.
Но главное — глаза. — Еще и красивые… и сознающие свою красоту… чему-то тайному — тайному! — принадлежащие… и потому мне целиком недоступные… и потому — для меня заветные!..
…Воет автобус?.. или — дорога?.. или — вся чернота?
Куда еду?.. К чему еду?..
…С днем рождения поздравляла меня. Всегда утром. Как-то через стены и дверь видела, что я, в моей спальне, проснулся, что открыл глаза. Нельзя было притвориться. Только что где-то в глубине дома с кем-то, слышу, говорила… И вот — сразу, чуть я шевельнулся под одеялом, входит… смотрит на этот раз прямо… намеренно тихо и намеренно ласково говорит поздравительно… неизменно обнимает за голову, за плечи… обдавая своим несравненным запахом… вкладывает в руки новую рубашку, или полотенце, или носки и — и шоколадку… Но не велит ее сейчас же починать, есть… А чуть-чуть удручая, требует вставать завтракать.
И так — было.
И это из всего, что ни есть вообще, вообще — по-настоящему, по-настоящему.
И как это так, что сейчас этого вдруг — нету?..
И откуда взялось это… это… событие?!.
Неужели… придется сказать… «горе»?..
Очевидно только, что оно — неуклюжее, грубое, дикое.
Откуда?..
Или оно было… всегда растворено… в том же самом воздухе, что и то тепло?!.
И всегда было рядом.
Почему об этом никогда не думалось?..
…Красивая, стройная, почти маленькая, гордая!..
И к ней-то — так грозно.
И о ней-то — о такой! — плакать.
Несправедливо...
Боже, а Боже! — Несправедливо.
«Сократили» — и, едва я с глаз, вдруг меня немножко затрясло!.. Как трясет от холода или вон с похмелья.
А профессию-то мою пристальную куда девать?!
Не знаю, не знаю…
Существо разумное может трясти и благородно, это — от страха, от трепета: а именно — перед самим собственно фактом его бытия.
Вот: лишь за сорок мне стыдно.
И если уж гнев бы, так только — на себя: за свою в этом слепоту, ну, или забывчивость, или небрежность.
«Кризис»? — «Всуе, всуе»!..
Я тогда чуть было не написал заявление: «по собственному желанию» — лишь бы не получилось так, что за меня обо мне — решили, решили!..
Подтвердилось — мое виденье!
Ведь я, уволенный-сокращенный, не чувствую себя — оскорбленным?..
Нет. Не чувствую себя оскорбленным.
То-то и оно!
…На улицу сделалось выходить стыдно… или страшно… точнее сказать — странно!..
Улицу в самом центре города зачем-то раскопали — и там целый метр: слои асфальта, песка, гравия… еще ниже — булыжник и еще песок…
Слои, слои… Годов, веков!..
А все, кто мимо идет, и в эту бездну даже не глянут. — Живущие в пространстве явно ином — плоском, куцем, убогом.
Я же, выходит, средь них, в их этом — в двухмерном — мире, — разведчик!
В студентах слышал, и — с кафедры, сказку-притчу про разведчика про «нашего»: он где-то «там», где у «них» все «не так», попался на том, что, переходя улицу, посмотрел сначала влево…
Я — после увольнения — признался, что и давно-то чувствую себя, в студентах ли, в журналистах ли, живущим… буквально на поверхности планеты.
Беру интервью — и при этом ведь подмывает же меня натурально… спросить самое разумное и действительное: изменяет ли мой собеседник жене?.. какое у него самое первое воспоминание в жизни?..
Что есть это самое, по мне, двухмерное пространство.
Вот видимый я и вот окружающий меня видимый мир, и — все, все!
Больше нет — кроме этого — ничего!..
«Сокращенный» — я нашел себя по-настоящему наконец-то озабоченным о так называемом «ближнем»!
Странно или не странно.
И даже язык не поворачивался сказать о себе: «безработный».
И — первое, свежее, новорожденное впечатление.
Кого ни встречу на улице, все — несчастливые!
Им, всем и каждому, в детстве или хоть в школе, или хотя бы институте не сказали, что они на этом свете — побывать!.. Что они, их души, до этого были уже на том свете и потом будут опять на том свете!..
Минувший, двадцатый, век был веком прежде всего — недоговоренностей. А уж потом — крови и атома, космоса и телевизора.
И все — несчастливые.
Вот этот. У него есть семья, деньги, карьера… но нет в душе чего-то легкого, отрад-ного — и он ищет это… в жизни.
А вот у этой нет ничего, даже и радости ни в настоящем, ни в будущем — и она ищет ее… в прошедшем.
И счастья у них — нет, нет.
Потому что оно, счастье, бывает не в жизни, а в душе. Ощущается подлинное не в каком-то отрезке времени — а как одновременное на всю жизнь.
Жить в мире, где только — только! и главное! — семья и работа, общество и цивилизация… времена года и эпохи возраста… выборы или осадки… — жить, то есть, только в состоянии ощущения лишь видимого, буквально видимого — вот я, а вот все окружающее, — и означает пребывать в двухмерном пространстве.
Потому-то я и не чувствую себя оскорбленным.
…Я, который — «я», не просто на этом свете, в этой жизни, в этом теле — не просто в этом видимом мире.
Я — в Мире.
В Мире, который состоит из «этого света» и «того света».
И просто я сейчас — на «этом».
Я в Мире — почему так понятнее мне самому себе говорить, — который — из види-мого мира и невидимого мира.
И я сейчас — в видимом.
И значит — значит, что «тот свет», «та жизнь» — просто-напросто мною буквально не видимы.
Но они — вокруг!
И я в них — как в соку, как в течении, как в ветру.
Я — в Жизни!
…Биржа и пособие — скука, унизительная скука.
В развязанном своем состоянии — лишь бы устроиться куда попало на работу.
Даже как-то все вокруг сделалось ново!..
И чуть я на эту тему — знакомый мне советует: иди, как и он… натурщиком в художественное училище!.. Он, дескать, просто сидит — а ему платят. Он сидит себе… его рисуют… И чтоб ни ему, ни всем не скучно было, он говорит, говорит, говорит… чего-нибудь…
Я прямо содрогнулся. Только тут мне бросилось в глаза, что ведь он — офицер в отставке… и лет на десять меня старше…
Как сие символично!
Я взял — конечно, баловства ради! — любую газету, где есть та, вожделенная, рубри-ка… Кем бы мог? — Ну, чтобы — что? — попроще… Да вот — плотником! Даром, что ли, деревенский… Звоню… Голос: «Слушаю…. Здравствуйте, Андрей Константинович!..» Я — сразу отбой. Как у них там мой номер?.. Может, писал в газету когда-то о ком-то…
Тогда мне еще не ведома была эта формула: мир мал…
…И выходить на улицу стал — уже с подлинным страхом.
Вокруг меня — спящие!..
Лица прохожих — выражение якобы знания и якобы понимания жизни. — Тупое выражение — сон понимания!
Да и все-то вокруг — во сне, во снах: «до-перестроечном», «пере-строечном», «пост-перестроечном».
Странно и жить среди странных!
Страшно даже, когда спящие — твои близкие.
Страшно — больно и подумать об этом…
Но надо идти на боль.
Почему — надо?..
Не знаю… Вернее, знаю: значит, я такой… что мне это надо.
И — надо идти на боль!.. Не терпеть. Незнания. И — на самую, значит, тайную свою боль. Чтоб, войдя в нее, как-то разрешить. Эту боль населить самим собою. Но и — оставшись собою!
Если есть свет — то потому, само собой, что есть и тьма.
И они — вместе!
Плеснуть в ведро воды родниковой ложку черной туши — и вся вода будет серой. — Так сказать — посредственной!..
И как же жить?!.
А надо сказать себе раз навсегда, что тушь в воде — нерастворима.
То есть: надо сказать себе прямо, да, прямо: я — чистый, да, я — чистый!..
Если я, например, люблю женщину именно эту, то все другие женщины для меня — частицы инородные. — Да, хочу я или не хочу.
И так — во всем бы в жизни.
И — в главном.
От рождения все — либо ангелы, либо бесы.
«Сократили»...
Да еще и — она… подружка пропала!..
Что?!. И — хоть где?..
…Оба одновременно… когда мы излили из себя тот «миг последних содроганий» — она так и уснула на мне: полусогнув руки и ноги, лягушкой, щекою на моем плече.
И уже ведь — какую неделю нет!..
Ее, ее нет.
…Любовь…
Любовь — как волнение, как волнение от загадочности, от загадочности предпочтения… этой, этой — всем… даже и не «всем», а — как бы всему, всему!..
Как только пришла, стал сразу ее раздевать.
— Какое счастье, что не нужно врать!
Она помогала…
Президент… который не ощущает… тонкость пленки воздуха вокруг планеты и зыбкость жизни в ней… и одиночество этой особенной планеты в целом пустом Космосе… который… которому, однако, почему-то хочется… быть руководителем миллионов… каждый из которых тоже не ощущает… тонкость воздуха и жизни… в бесконечном до непонятного Космосе… президент говорил… о чем-то… горделиво…
— Какое счастье!.. что не надо!.. лгать!..
Потом уснули.
Потом проснулись.
Радио, оказывается, все еще раздавалось…
Пили кофе.
Теперь... почему… не приходит?!.
…Помню, только начал работать в газете, мне — чего я заранее и опасался!.. — среди интервью или вымогания той информации вопросы… такие!
— А вас любят женщины?
— Женщины… Э-э… Женщина должна быть… стройной… Должна… Впрочем, никому, конечно, — ничего!.. Женщине желательно быть… Желательно и для всех, и для нее… Быть стройной и приветливой!
— Вы, видимо, любите женщин!
— А-а… а мужчина… Мужчине следует быть… снисходительным и профессиональным. Хоть летчиком, хоть вором.
А ее — нет и нет!..
…Почему — не идет?
Вот. — Сейчас бы и пришла! — Как мир не мал…
А мы договорились так: без предварительных звонков!.. Она ко мне!.. В любое время!.. Прямо в дверь!..
Так уж условились: ежемгновенное счастье!..
И даже не знаем... телефонов друг дружки.
Притом — никого общих знакомых. И — ни с кем разговоров и упоминаний друг о друге.
Придумали идеальную сказку… Да нет! — Сказочный идеал!..
Но… не стучит…
И это обговорили: стучать ей четыре раза. Отчетливо.
А я — шел к двери уже после удара второго!
Иные же все, олухи, звонят.
Как неприятно… смотреть на кошек!..
Женщина, которую я не хочу, мне кажется… грязной.
…Или я перед нею в чем-то виноват?
На асфальте, крупными белыми, было позапрошлым летом: «Маша, я тебя люблю!» — Под окном, значит, под чьим-то.
Я еще подумал: так ведь затопчут…
В другом месте — зимой: «Галя, я тебя…» — дорожками огромными по снегу.
Все равно заметет…
А может… это я жалел… что писал, рисовал — не я?..
…Мама — мама не знала.
Как всегда, ничего не знала.
Ни что у меня появилась девушка… Ни того, что она у меня… от меня… пропала, пропала!..
…В мокроту вышел уже в серую. И пахнущую другим, чужим городом.
Дождь был видим. И лужи были везде на асфальте и на снегу.
Сразу промок.
Зонт… забыл?
…Всегда думал и так всегда знал, что у мамы день рождения тринадцатого, а у нее — недавно увидел в какой-то бумаге… четырнадцатого!
И всегда она говорила «спасибо» в ответ на мои поздравления… тринадцатого...
Говорила тихо…
Нарочно!
Почему она меня никогда не поправила?..
Или хоть бы папа.
Так это она ему, конечно, и не велела!
Зачем ей надо было — так?..
…Как хорошо, что я весь промок!
Сел в их, в том городе, троллейбус. Ехал с его, того города, пассажирами. Вышел у той, где и знал, больницы…
В ботинках хлюпало. Во рту было сухо.
Но большего я — сегодня и сейчас — сделать не мог.
Для нее… для нее…
…Подошел к больнице.
Три этажа…
Единственная, по фасаду здания, дверь.
Никого… Все спрятались…
Открыл, вошел.
Теплое и душное фойе — полное-полное!..
В основном — женщины, в основном — в очереди. И все — с сумками в руках. Ужасное же самое — с одеждой в руках! С верхней.
Я капризно, я плаксиво запыхтел…
Спросить «последнего»?!. В очередь?!. Стоять?!.
Я дерзко выскочил прочь, вон.
Очередь! — Самое бесправное и унизительное, по мне, самоустройство социума.
На улице, у дверей под козырьком, задыхался.
Минуту. Полминуты...
«Реанимация» — «Приемный покой»… «Скорая» же — всегда туда!..
Пошел к углу здания… Повернул…
Вот. Дверь. И даже — под большим навесом на столбах.
Пошел к этой двери!.. Размахивая руками!..
Тяжелая, металлическая, черная…
Распахнул надежно.
Вместился.
В тихой теплой комнате свободной — белая вся санитарка и черный весь охранник…
— Я помощник губернатора.
Они оба промолчали…
— Моя мать тут умирает.
Они — где и сидели…
— Мне как в реанимацию?
Они шевельнулись, чтобы что-то сказать…
— Я куртку оставлю у вас.
И я уже ее снимал.
Они одновременно негромко попросили … куртку взять почему-то с собой… «на руку»…
Просто и тихо объяснили: по лестнице, третий этаж, налево…
Я миновал их с курткой на руке.
Но на третьем этаже чуть с лестницы в коридор — опустил куртку, за вешалку, к полу… и поволок… как бы большую сумку.
Бывал, то есть, в больницах бегло и псевдосострадательно.
В тусклом медицинском запахе… санитарки встретились по коридору длинному две, но обе — толстые старухи вялые.
По сторонам кое-где… ленивые полосатые тени…
…А вдруг мама сейчас… спросит?!
Вот на Земле жизнь — а вокруг жизни нет, совсем нет, вообще везде нет, во всей бесконечности...
И — почему так устроено?!.
Но именно об этом существа — единственные, из всех живых на Земле, называющие себя разумными — как раз и не заботятся, даже и не помышляют!..
Странно?.. Не странно?..
Дальше — прежде, снова, всего.
Каждый разумный видит или сам закапывает в землю себе подобных… и знает, что и его обязательно когда-нибудь так же закопают…
Но именно об этом разумные ни разу в день или хотя бы ложась спать и не поми-нают!..
Тем более, далее, — каждый, каждый тот разумный на этой самой планете — неповторим, совершенно, на все времена и страны, уникален, абсолютен!..
Однако этим фактом он не только ничуть не одержим — попросту не берет его в голову!..
«По-че-му?»
Вопрос этот даже и вымолвить… поистине неуместно.
…А может быть!
Вся сама по себе планета Земля — шевелящаяся! — с пленкой-корой разнообраз-
ной жизни по ней… есть этакий великий шарообразный живой действующий мозг, Мозг!..
…На дверях: «Кабинет реанимации».
Сердце где-то… рядом со мной… ощутимо стало…
По — живой?..
Слово это… какое зыбкое…
За дверью внутри… впрочем… присутствовало что-то… впрочем… как бы домашнее…
По живой!..
Бросил куртку на пол.
Подумал подумать — постучать ли?..
А уже стоял в какой-то комнатке темной, как тамбур… и дальше — звала дверь открытая… звала — электрическая яркая…
Но из боковой двери вышел в белом халате кто-то. — Молодой мужчина, коротко стриженный, аккуратно бритый… совсем молодой, с глазами пытливыми… студенческими.
— Моя мать здесь.
У него одна рука была в кармане в белом.
Он спросил…
— Троицына.
Он, не моргая, сказал что-то про «одну минуту»…
…В оранжевом искусственном запахе.
Мама…
Мамины глаза закрыты.
Мама — была.
Была так, что она — есть.
Слово и это… зыбкое…
Мама дышала.
Устало…
Терпеливо…
Нетерпеливо!..
Под носом трубочка прозрачная — чужая — приклеена пластырем — чужим…
До подмышек — под простыней.
Руки — на простыне.
Теплые, теплые руки.
Теплые щеки… лоб теплый…
Такие, какие они и есть.
Ладони мои — как на горячем… и — опасном… и — затаенном!..
— Мама…
Она — хмыкнула… вопросительно…
Как когда ее — уж если мне чего-то очень-очень — будишь.
— Мама…
Я — над самым, близко, ее теплом.
Она тут — сказала.
Не губами, еле слышно, полуоткрытыми — а, как всегда, самой настоящей собой.
— Подыми мне глаза.
Я — пальцами, указательным и большим, левой руки… со стороны ее лба… отвел к ее бровям… ее веки…
Пестрые глаза… в мелких оранжевых точечках… были… и были такие, какие они и есть.
— Мама!..
— А?..
Задумчиво… привычно…
Разумно!..
Зрачки — темные… оказывается — они круглые… оказывается — они черные…
Блестят — ожидающе… готовно…
Ожидают… чего?.. готовы… к чему?..
И — словно им, зрачкам, не хотелось отрываться от какой-то точки… где-то вверху…
Но — чуть повелись… ко мне, ко мне…
— Адре…
Глаза и все лицо — настроенные, приготовленные — выразили: вот — я, вот — ты… точнее, увы: вот — я… и — все остальное…
Глаза, лицо, все тело под простыней: я — я… я — я… она о себе…
Я достал из кармана записную книжку, из книжки — календарик с Богородицей. Сунул его на теплую грудь под простыню.
В тамбуре за спиной шевелилось…
Я забоялся, что кто-то приблизится к нам, к нам двоим…
Губами — лоб теплый.
…В тамбуре врачу в глаза:
— Что?
— Разрезали, посмотрели, зашили.
Не моргая и не сводя глаз с моих глаз.
— Что?
— Умрет часа через четыре.
Смотрел, не моргая и не сводя, как понимающий понимающему и как это все понимание понимающий.
Еще очень он молодой!..
Во мне мелькнуло… где-то очень далеко… я брал интервью… смотрел… так же?..
Я опустил глаза… чтобы быть полнее, ощутимее, пространнее…
Записал номер телефона.
Сам же — четко осознавал… иное, тайное, пространство: например, что фамилия ее девичья — Вольская…
Внизу, в ужасном том тесном фойе, — на кого-то заорала толстая белая… на чью-то куртку…
…Я не живу в этом самом «сегодня».
Это и невозможно. Для бодрствующего.
Время, все-все время, — это только — «сейчас».
Прошедшее, настоящее, будущее — так называемые, и они — одновременно.
Для бодрствующего!
Я не живу, само собою, и где-то «здесь». Этого «здесь» для меня попросту не бывает. Рука моя распространяется — всего лишь на длину руки. А — насколько я?!.
Я помню миг, когда я обнаружил себя в «моем» теле.
Помню… и будущее.
— Ты.
— Я.
— Ты.
— Да я, я…
— Ты на этом свете.
— Что?
— Ты уже на этом свете.
— На… на каком?..
— На этом свете.
— Не… не понимаю…
— Ты был на том свете.
— На каком еще «том»?..
— На том, который ты называл «этим».
— Я и сейчас… на этом свете.
— Нет, ты сейчас уже на этом.
— Я и говорю…
— Нет. Ты сейчас на том свете, который ты раньше называл «тем светом».
— Да, «тем светом»…
— Называл.
— Называл…
— Спокойно называл.
— Спокойно…
— Так вот теперь ты на этом свете, на этом.
— Как?!.
— Так.
— Я… что… уже… то?..
— Да. То.
— Н-ну все!..
— Не все. Ты раньше был на одном свете, а теперь ты на другом свете.
— Все!..
— И это не все. Ты на этом самом другом, теперешнем, свете уже был.
— Был?!.
— Был. До того, как ты попал на тот, вчерашний, свет.
— Не могу…
— Можешь.
— Не помню.
— Помнишь.
— Не знаю…
— Знаешь.
— Что… теперь?..
— То же, что было и всегда.
— Но что, что?..
— Ты всегда все это знал.
— Знал…
— Знал.
— Знал…
— Был в покое.
— Был…
— И теперь ты в покое.
— В покое…
— Потому что ты знал.
— Знал.
— Ты всегда был в покое.
— Знал.
— Ты всегда был в покое.
— Знал! Знаю!
— Всегда так говори. И на этом свете и на том. И на том и на этом.
Логически — нельзя иначе и знать.
И — не может быть иначе, не может!
…В автобусе вспомнил ночное: «ужас пребывания».
Чувство это длилось, по сути, и теперь. Разве что я с ним смирился.
Да, не привык, а смирился.
В тот, под одеялом, миг я особенно четко ощутил себя, меня… маленьким живым предметом… в огромных сомкнутых ладонях…
Так и сейчас.
Ужас — от неожиданности этой догадки.
А обычное состояние человеческое повседневное — попросту страх. Страх, который он, человек, страшась этого слова, называет то волнением… то ответственностью… то набожностью…
Страх пребывания в жизни — состояние длящееся и… нормальное.
Пребывания в жизни: в этом теле, в этом мире, на этом свете.
Гвозди на рентгеновском снимке…
Вот! Вот!
Мир мал.
Гвозди в космическом пространстве распространяются во все стороны с безостановочной безвоздушной скоростью — но гвозди те же самые в тесноте воздуха на подземной станции метро… да еще и в переполненном вагоне в пиковый час… распространяются всего лишь со сверхзвуковой, может быть, скоростью… и притом всего несколько сантиметров… так как увязают в ощутимых человеческих телах…
Точнее сказать, в космическом пространстве вообще, кажется, нету гвоздей… так как непонятно, зачем им там распространяться… Точнее, опять же, сказать, в космическом пространстве почти что нету человеческих тел… и, значит, их мыслей о возможном распространении там гвоздей… так как человеческие мысли заняты в основном тем… чтобы распространять гвозди на планете Земля, притом в подземном помещении, притом… и так далее…
Еще точнее сказать — для распространения гвоздей, чтоб они — во все сразу стороны, человеком освоено пока лишь подземное пространство, в отличие — что, вероятно, впереди — пространства околоземного…
Мир мал — и притом так уже особенно мал, что, между прочим — и как раз не между прочим, смертниками гвозденосцами становятся все чаще особы женского пола…
Мир мал — и так уже характерно мал, что — соответственно и тем более не между прочим! — работниками правоохранительных (от смертниц и их гвоздей) органов работают все более особы того же пола, женского…
Мир мал — угрюмо, угрюмо. Не только среди уголовников, но и в криминологии об «криминальных авторитетах» нет термина «криминальная дружба», только — «криминальные разборки».
…Золото у паролимпийцев.
Вот! Вот!..
Золотых медалей и прочих получают на порядок большее количество спортсменов, если у них отсутствуют зрение, слух, рука, а то и вовсе обе ноги — в отличие от обыкновенных спортсменов, которым эти самые различные органы и конечности только, по причине малости мира, мешают.
Вернее бы сказать, особи человеческие с «ограниченными возможностями» эти самые ограниченности и стараются преодолеть, в чем и преуспевают, — тогда как особям, чьи возможности не ограничены, есть смысл, привитый современным имиджем, успеть бы воспользоваться своими органами для побед в сексе и бизнесе.
Мир — мал, мал…
…Ночной клуб сгорел. — Хоть он и стекло-железо-бетонный.
Вот!.. Вот!..
Мир — мал.
И поэтому именно в это сравнительно небольшое по габаритам пространство надо было наносить и навозить как можно больше самых горючих материалов — чтобы все они, вместе с полным клубом, в несколько минут сгорели…
Почему загорелось?.. почему не было запасных выходов?.. — А потому и загорелось, что не было ни запасных, ни… вообще никаких — выходов-то…
Иначе — что бы делать в кубическом зале, что на пятьдесят персон, сразу тремстам?.. что бы делать им — столь взрослым?.. что бы им делать — в столь поздний час?.. что-
бы делать им — в столь громком музыкоподобном звуке?.. да и это все — одновре-менно?!.
Мир мал — и только в этот поздний час в этом замкнутом строении нашлось место этим людям для их краткой и единственной жизни!..
Первое свойство мира, мира людей, — и потому не сформулировано оно было никем прежде! — что он, мир, — мал.
Однако… не воздеты руки людей, не согнуты колени людей…
…Из автобуса вышел — уже под черный дождь своего города.
Набрал номер… идя или стоя в луже…
Юный ровный голос…
— В семнадцать тридцать.
Я — пошагал, пошагал, пошагал…
Но — сколько ни иди… Никогда теперь не встретишь.
Кого хотел бы — больше всего и всех.
Никогда…
И даже и не увидишь.
Никогда…
Черный дождь по щекам был горячий.
Мир — мал.
Мир — мал!..
Ярославль, 2010 год
Русское странничество Евгения Кузнецова
Мы привыкли думать, что писатель — это человек с наиболее острым чувством современности, эпохи, со способностью глубоко и ярко выразить дух времени. Он открывает нам глаза на актуальную реальность. Увы, сегодня так бывает не всегда. Жизнь переменилась, мир дышит уже странным и диким озоном третьего тысячелетия, а прозаики иногда пишут так, как бывало в середине или конце ХХ века, не слишком задумываясь о том, что новый, фантастический опыт человека требует новых средств его выражения.
В современной русской прозе много отстойного и банального. Она слишком часто несет на себе печать социальной инерции и рутины, которые иной раз остро дают о себе знать в российской жизни, несмотря на вроде бы грандиозные сдвиги и потрясения. Как и русская жизнь, русская литература сегодня нередко по-плохому провинциальна и лишена внятного видения будущего (а там, где таковое в литературе имеется, перспектива парадоксальным образом представлена в жанровых формах антиутопии, прозы катастроф).
Среди тех немногих наших прозаиков, которые отважно, бескомпромиссно идут на штурм новой реальности, осваивая и выражая ее с какой-то очень убедительной мерой адекватности, самобытно, оригинально до степени моментальной узнаваемости авторской манеры, — Евгений Кузнецов в своих последних романах (опубликованы два из них: «Быт Бога» и «Жизнь, живи!»), драматической повести «Чернила в бокале» и рассказах.
Кузнецов многое принес в жертву литературному поиску и эксперименту, которые ведет ради постижения и выражения истины. Он настолько непривычен, что ошарашивает многих читателей. Мне-то кажется, что проза Кузнецова не так уж и сложна; он не стремится усложнять ее намеренно, скорее наоборот. Но отсутствие четко предъявленной интриги, простой сюжетности, круговой ритм этой прозы, проблемы с ее героем — все это не облегчает чтение. При этом Кузнецов ярок почти в каждом фрагменте, часто афористичен, временами дает при чтении редкой силы наслаждение. Иногда это похоже на стихотворение в прозе.
Для новых смыслов он ищет и находит слова, которых нет у других, которые полнее всего материализуют прозрения духа. И он дает этим словам возможность жить свободно в пределах очень гибкого синтаксиса, просторного мира объемистой книги. Поэтому так свободна кузнецовская повествовательная форма.
Кузнецов — писатель, не разменивающийся на пустяки. Хозяин мыслей глобального масштаба. Писатель, заметим, верит в небессмысленность бытия (а это теперь и в литературе, и в философии, и в сознании современника вовсе не аксиома). «Жизнь есть жизнь замышленная, задуманная. По Мысли требовательной Вселенной».
Ему и его герою всегда нужна идея существования, которая связывает, мотивирует, объясняет дискретность бытия. Он ищет универсальный закон или объединяющий принцип бытия, анализирует жизнь на границе, где полыхает конфликт дискретного (частного, мелкого, банального, пошлого, примитивного) и глобального, которое так или иначе связано со свободой и творчеством.
Он не загоняет свою мысль в публицистические рамки, тем более не стреножит ее догматикой. Мысль движется свободно, ей обеспечен в пространстве повествования максимальный простор, и сама она лишь задает некий разгон жизни и пытается уловить ее смысл не в готовых формулах, заимствуемых извне, а в логике собственного авторского понимания реальности.
Мы в принципе понимаем, что нет, в сущности, ни одной мысли, которая охватила бы собой всю реальность без какого бы то ни было остатка. Так и кузнецовские большие идеи кажутся односторонними или неполными, может быть. Кажется, что их недостает для постижения и выражения бездны бытия, метафизического провала на краю ночи. И да, таки недостает. Поскольку все же никому не удавалось объяснить жизнь в ее совокупности. Тут главное — не итог, а процесс. И отдельные достижения в этом процессе. И с учетом этого трудно, например, не разделить радости открытия героем и автором в романе «Жизнь, живи!» генерального мотива человеческой активности:
«И надо — отдавать.
— Хотя бы напропалую расточать! <…>
Лишь бы — отдать!»
Роман задуман, чтоб показать нам, как бессознательно или осознанно работает этот принцип в самых разных ситуациях существования. Включая, разумеется, и творческий акт, то есть, чем занимается писатель (и его герой).
Неудивительно поэтому, что герой прозы Кузнецова обычно пребывает в остром кризисе. Он одинок, он в хаосе, перед лицом трудноразрешимых противоречий бытия. Его никто не понимает, и он не имеет власти над миром, не способен прийти к легкой гармонии. Но он и не ищет легких путей.
Он, можно даже подумать, упорно усложняет свою жизнь, форсирует ее драматизм. И не за счет эксцентрики, не ввиду каприза, но исключительно потому, что стремление его к полноте понимания реальности неутолимо, в то время как абсолютное большинство окружающих его людей исчерпали это понимание простой и удобной формулировкой, позволяющей успешно жить, хотя б и замыкающей при этом пространство больших и непредсказуемых смыслов и истин. Им не нужен золотой ключик истины, им хватает нержавеющей отмычки от вполне конкретных дверей к уюту и комфорту.
Герой выводит такой алгоритм общения с адептами удобной истиBC-то».
Высшая форма самоотдачи — любовь и творчество. Об этом пишет Кузнецов. И с этим трудно спорить. «Ведь только о любви поется со стыдом и восторгом новизны.
К женщине, к Родине, к Богу.
Так, значит, и надо петь только о любви!..»
Но как, как? Ведь столько уже спето, и столько банальных слов, столько расхожих клише, удобных для туговатого уха! …любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне, любовь не вздохи на скамейке…
Но гребенки и ноги, трагик в провинции и дым табачный, который воздух выел, и улица, которая глава в крученыховском аде, — ведь все это неповторимо, сказано лишь однажды Пастернаком или Маяковским, и в этом когда-то открылось новое измерение отношения творческой личности к миру и к человеку. Однако и сегодня никто не знает априори, как правильно любить вот этого человека, с которым вдруг свела тебя жизнь. Как событие встречи претворить в высокую поэзию зрелого чувства, в прочную и надежную ткань поступка и жизни, которая не знает повторений.
А потому очень точно, с безупречной внятностью Кузнецов связывает песнь о любви с песнью об истине. О стремлении к истине. О любви к Истине. В которой тоже нельзя быть до конца уверенным, но которая все же есть.
Чему учит этот неожиданный в Ярославле, небывалый, странный писатель? Этот писатель учит жить свободно — и по возможности осмысленно.
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/nphu/






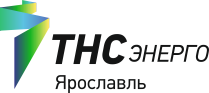



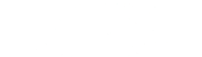
Комментарии: