Евгений ЕРМОЛИН. Ярославская аномалия. Молодая проза Верхневолжья, начало XXI века
Евгений ЕРМОЛИН
Родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской обл. Сын поморского поэта Анатолия Навагина. Закончил факультет журналистики МГУ. Дебютировал как поэт. Первая литературно-критическая публикация — в журнале «Литературное обозрение» (1980).
С 1981 г. живет в Ярославле и работает в местной прессе. С 1989-го преподает в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ныне профессор, заведующий кафедрой журналистики.
Толстожурнальный критик, публиковался в «Континенте», «Новом мире», «Дружбе народов», «Знамени», «Октябре» и др. журналах. Работает в традиции русской религиозно-философской критики, христианский либерал-демократ, персоналист. Научные труды — в сфере истории русской культуры, ярославского краеведения, истории памяти и мифокритики. Член Академии русской современной словесности и Литературной академии национальной премии «Большая книга». Заместитель главного редактора журнала «Континент», редактор интернет-проекта «Континента». Лауреат литературных премий «Луч света — Антибукер» (2000), журналов «Октябрь» и «Дружба народов», отмечен званием «Станционный смотритель» как лучший критик России (2010). Член Союза российских писателей.
© Е. А. Ермолин, 2011
Ярославская аномалия
Молодая проза Верхневолжья, начало XXI века
Мало кем замечен факт, бросающийся, однако, в глаза: в начале нового века ярко, заметно заявили о себе на общероссийском уровне сразу несколько молодых прозаиков-ярославцев, составивших своего рода ярославскую литературную аномалию.
Всего один пример внешней, скажем так, фиксации этого явления: пять лет назад остроглазый московский критик Лев Данилкин в дюжине тех, кого он назвал «юниорами» в актуальной российской словесности в масштабе страны и зарубежья, упомянул сразу двух ярославцев: Наталью Ключареву и Сергея Вербицкого. Правда, никаких выводов из этого он не пытался сделать.
Спустя год-другой список мог бы быть расширен за счет Марины Кошкиной, Анны Лавриненко, а потом я бы к ним добавил Андрея Донцова, Елену Георгиевскую, Бориса Гречина, Юлию Коробову.
Итак, по году рождения. 1972: Вербицкий. 1980: Георгиевская. 1981: Гречин, Ключарева. 1984: Лавриненко. 1985: Кошкина. 1991: Коробова…
Отмечу, что далеко не всякий российский мегаполис может похвалиться таким списком молодых писательских имен. Скажем, Петербург, на мой взгляд, не может, хотя тамошняя литературная когорта и прирастает помаленьку за счет притока извне (то Александром Карасевым, то Моше Шаниным).
Отчасти сравнение выдерживает далекий Абакан. Оттуда маститый уже Роман Сенчин, а также Сергей Чередниченко, Андрей Белозеров, Алексей Леснянский — это довольно интересная плеяда. А больше ничего похожего за чертой Москвы мне, честно говоря, и не припомнить. Может, кто подскажет?
Заметим, что филфак ярославского пед-университета как питомник талантов едва ли не обгоняет прославленный Литинститут, так сказать, по очкам гамбургского счета. На филфаке учились или учатся Георгиевская, Донцов, Ключарева, Коробова, Кошкина. (Не говоря уж о поэтах Алексее Бокареве, Надежде Папорковой, Андрее Нитченко, Александре Антонове, о которых разговор пойдет в другой раз.) Здесь же, на инязе и в институте педагогики, подвизался Гречин.
Многие (но не все) ярославцы участвовали в форумах молодых писателей России в Липках под эгидой фонда Сергея Филатова, а Вербицкий и Георгиевская издали свои книги при помощи фонда.
Разумеется, далеко не все они постоянно обитают в пределах Ярославской земли. В наш динамичный век эта сугубая оседлость художника, писателя выглядит даже странно и должна быть мотивирована большими социальными обязательствами. Сюжет жизни в начале XXI века все очевиднее становится сюжетом большого путешествия.
Интересно, что у ярославской молодой прозы в основном женское лицо. Впрочем, я бы не стал из этого делать никаких далеко идущих выводов. Интереснее, что у молодых прозаиков мы в разных поворотах узнаем реалии Ярославля, иногда Рыбинска. Хотя это тоже частность.
* * *
За последние годы наиболее успешно проявила себя и снискала самое очевидное признание в литературном мире и за его пределами Наталья Ключарева. На текущий момент она — самый известный в стране прозаик из Ярославля (если быть точным, то она делит время между Москвой и Ярославлем).
Начинала Ключарева как поэт, и я в совсем недавние, но уже далеко убежавшие годы говорил о ней как об авторе с сугубо острым чувством современности, что проявилось, в частности, в активном освоении ею экспрессионистских средств, тогда для нашей местной поэзии небывалых.
Довольно рано, отнюдь не в зрелые года, Ключарева обратилась к суровой прозе. Молодая писательница в 2006 году дебютировала в журнале «Новый мир». Ее первый роман «Россия: общий вагон» — это панорама русской жизни начала века, увиденная глазами юного странника, идеалиста и правдолюбца, студента Никиты. «Мутными глазами обще-
го вагона на него смотрела страна». Люди,
которые встречаются Никите на пути, являют непарадные, непраздничные, негламурные лики родины. Их истории — это истории бе-
ды и несправедливости, политые слезами и кровью.
Другой ряд знакомых Никиты представляет людей, которые воспринимают действительность не страдательно, а рефлексивно, пытаются дать антитезу моральному разбою и духовному опустошению, царящим на Русской равнине. Некоторые критики усомнились даже, что такие люди бывают в нынешней России. Но почему бы и не быть в ней заложнику чести Юнкеру или нестандартному патриоту Рощину, который почему-то не пытается уличать в негодяйстве внешних врагов, а болеет душой за пороки и язвы родины? Да даже и мальчик Иван Вырываев, который пишет «предупредительный» роман о том, к чему может привести экологическая беззаботность, — почему бы ему не быть в нашей все-таки не совсем-таки пока примитивной и не окончательно бессовестной стране?
Впечатляет и финальная гротескно-гипер-болическая кульминация романа, где автор изобразила социальный эксцесс, рецидив русского бунта по поводу приснопамятной зурабовской монетизации льгот, с походом стариков на Кремль.
Роман имел широкий резонанс. О нем весьма комплиментарно отзывались и литературный критик-зоил Виктор Топоров, и столь несходные меж собой по творческим ориентирам и политическим взглядам Мария Арбатова и Эдуард Лимонов. Да даже и я.
Характерным образом рассуждал, например, старающийся держать дистанцию критик Николай Александров: «Здесь многое по-настоящему удивляет — и внимание к случайным голосам тех, кто и ездит обычно общим вагоном (описание общего вагона — открывает повествование), и какое-то целомудренное отсутствие цинизма при том, что автор безо всякой брезгливости, без тошнотворного морализаторства говорит о вещах грязных, страшных, неприглядных, уродливых и говорит в словах и терминах соответствующих. Говорит с юмором, но без ненависти, а с прямой, открытой, лишенной позы и претензий любовью. Здесь не кажется надуманной, искусственной и история любви впечатлительного юноши Никиты, падающего от жизненных впечатлений в обморок, и брутальной, загадочной девочки Яси. Здесь цитаты и ссылки на классиков не кажутся вычурными, а описание вечера поэтов-маргиналов действительно смешно. Наконец, здесь вполне живая, ненатужная, невымученная языковая стихия, раскованная, свободная, что само по себе уже редкость. И все эти достоинства примиряют с несколько искусственным и вялым финалом». По поводу финала с критиком можно, кстати, и поспорить.
А критик Сергей Костырко заметил: «Роман Ключаревой я бы назвал своеобразной стилевой рефлексией на темы русской революции в отечественной литературе ХХ века, а его революционный пафос — формой эстетического позиционирования в современной литературе с помощью политических символов».
Опубликованный в следующем году рассказ Ключаревой «Один год в Раю» был отме-
чен Казаковской премией, которая присуждается за лучший рассказ года. Рас-сказ представляет вариант социальной альтернативы мейнстримной бессмысли-це бытия, тип дауншифтинга, — из городской клоаки
в заброшенную деревню. Мне показалось, что он пе-
регружен символикой. Хо-тя… богатство смыслов — это ведь не бедность и убогость оных, что встречается в нашей словесности довольно часто.
Второй роман Ключаревой, «SOS», посвящен душевным метаниям юного художника. Герой успешно заявил о себе в Москве, вошел в моду, но карьерный рост и финансовое благополучие его почему-то не радуют. Возвращение в родной город, в котором угадывается, заметим, Ярославль, становится для персонажа средством обретения нового опыта и творческой миссии. Критик Майя Кучерская писала: «…в этой книге не стесняются пафоса, всерьез спрашивая друг друга, например: «Ну и для чего же ты живешь?» И в ответ слыша: «Я оскорблен за людей, что они такие. Недостойны звания человека… Я хочу преобразить их». Героям Ключаревой говорить такое не стыдно, потому что они верят в то, что говорят, а еще потому, что они совсем юные, эти ребята: художник Гео, его приятель Юрьев, прекрасная девушка Юля, ныне жена Юрьева, в прошлом любимая девушка Гео, им брошенная и от отчаяния севшая было на иглу. Всем им слегка за двадцать. Все они в состоянии говорить о смысле жизни без кривой усмешки. Это лучшее, что есть в книге «SOS», и главное, что удалось Наталье Ключаревой, — передать их юношеский трепет, запечатлеть смертную напряженность их существования. Словом, передать всю боль и трагичность юности. Когда не разговаривают, а хрипло кричат, когда звонят друг другу ночью, просто чтобы сказать, как все достало, когда забывают нажать на тормоз, а от отчаяния, что он уехал, соглашаются уколоться. Когда чудится, что на месте любимой девушки никогда уже, никогда не будет другой. За эту необыкновенно точно переданную обнаженность их чувств, за их святую нервность и яростную чистоту помыслов прощаешь Наталье Ключаревой все формальные неловкости. Неубедительность отдельных ходов, обрывочность сюжетных линий и даже неумение довести своего героя до душевного перелома без химии».
Роман противоречивый, временами очень спорный, где о чем-то сказано наспех, а о чем-то слишком уж однолинейно. Но Кучерская права: это живая и волнующая вещь, богатая содержательностью.
Наконец, нельзя не сказать о предпоследней книге Ключаревой (самая недавняя у нее — детская: «В Африку, куда же еще?»).
«Деревня дураков» вошла в 2011 году в шорт-лист премии «Ясная Поляна» (обойдя роман еще одного ярославца, Евгения Кузнецова, «Жизнь, живи!», который, честно говоря, лично мне кажется не менее значительным — но жюри премии решило иначе). Снова молодой герой. Снова странствие по России и в глубь себя. Снова путь из города с его дешевыми соблазнами в маргинальные края, какими стала теперь русская деревня. Книга веселая, трогательная, озорная и драматическая.
Согласно тонко разобравшему повесть критику Владимиру Цыбульскому, книжка Ключаревой — «о неизменной тупости российского бытия. И о существовании в нем светлых душ. Тех, литературный свет которых виден невооруженным глазом: Митя, деревенские старики, счастливые каждым лучиком и капелькой росы, батюшка Константин, спасающий алкоголичку Любку, ее брошенного сына Костю и местного шофера проповедью хотя бы пить не каждый день. Тупость бытия в вымирающих деревнях — она вечная. Российская, советская и снова российская. Этот мир неизменен. Если что в нем и создавалось, то только через насилие. <…> Он все тот же. На человека не рассчитан. Инвалид должен ездить в райцентр каждый год, чтобы доказать, что у него не выросли ноги. Учителя заискивают перед районным начальством, чтоб не закрыли школу. Приезжие из Европы волонтеры, что ухаживают за душевнобольными, живут с просроченными визами и в страхе, что их выселят и не дадут спасать тех, кто тут никому не нужен. Людей насилуют, как и прежде. Но от изнасилований теперь не родятся даже колхозы. Сделать хоть что-то в мире жестоких привычек и распахнутых душ могут одни одиночки. Приезжие инородцы или отечественные вечные юродивые и блаженные. Если не нищие духом, то уж неимущие точно. <…> В деревнях дураков по уму жить не получается. Здесь хоть что-то оживает, лишь когда вопреки уму и от светлой души». Критик резюмирует: «И в повести «Деревня дураков», и в очерках ищет Ключарева русского духа и «чувства Родины». А находит только одно чувство, на котором, по ее убеждению, и может устоять нынешняя Россия. И это чувство — стыд».
Да, господа, проза Ключаревой что-то такое будит в привычных к отечественным непотребствам душах. Есть в ней эта высокая нота, эта туго натянутая струна идеализма. Клю-
чарева пишет о России одиночек, искателей правды и веры, России странников, изгоев и отщепенцев, о той «бродячей Руси», на которой, может быть, и держался извечно русский мир (не на бесчеловечной же, как правило, государственности и не на самодовольно-толстобрюхом краснобайстве!). «Юродивый-мученик, мудрое дитя, убиенный царевич», — так, архетипически, определил героя Ключаревой Виктор Iванiв. Герои ищут русский ковчег — но, кажется, логикой развития авторской мысли от книги к книге убеждаются, что он не дан въяве и не обретается где-то в сельской глуши. Эта Россия духа уходит в неназываемые пространства личного опыта, в таинство веры, в ментальные окрестности Беловодья, где русскую душу не достанут ни жандарм, ни чекист, ни штатный патриот на окладе с премиальными.
* * *
Само сложилось так, что идеализм, юношеское неприятие повсеместного, привычного цинизма, рвотный рефлекс при встрече с социальной и духовной неправдой отличают и в целом очень разную прозу молодых ярославцев. В этом смысле Ключарева с ее книгами — правило, а не исключение.
Таков и общий генеральный вектор новой, молодой прозы XXI века. Мне уже приходилось говорить о том, что искренность и простота — это, пожалуй, доминанта стиля молодой литературы. Это сразу бросается в глаза — и это резко отделяет новых писателей от их непосредственных предшественников, литераторов конца минувшего века, когда признаком хорошего тона считалась способность удивить читателя всякими понтами и наворотами.
Новое качество новой литературы не связано напрямик с просто неискушенностью, неопытностью нового поколения. Кажется, причина в другом. Быть может, именно так сегодня и запечатлелся в литературе тот факт, что для молодого современника является наиболее естественным состояние творческой свободы. Как воздух. Ему не нужно этим маяться, не нужно бороться за свою свободу, не нужно ее отстаивать, не нужно — главное — искать специальные средства для того, чтобы дать знать о своем несовпадении с социальным и моральным официозом… Новое писательское поколение — это, в сущности, первое вполне свободное поколение в России. Свободное от государственного принуждения, от контроля и цензуры, от соцзаказа и политприказа — причем практически с рожденья. Или уж, во всяком случае, с отрочества. Оно, это поколение, лишь теоретически представляет себе, какой роковой проблемой для серьезного русского писателя была свобода высказывания.
В нынешних молодых, в их судьбе и опыте, должны бы сбыться ожидания и надежды, которые не позволяли отчаяться многим лучшим русским людям, поколениям искателей воли и правды. Сбылись ли, сбудутся ли эти надежды? Хватит ли этих атмосферических явлений, позволяющих дышать и говорить без спроса, без оглядки, хотя б на длину их жизни?.. Это другие вопросы. И на них, возможно, еще рано отвечать.
Но прежде спросим: вправе ли мы в принципе ждать от молодых писателей мобилизации, вправе ли настаивать на необходимости и неизбежности ангажемента? Лет десять назад саму постановку такого вопроса сочли бы беззаконной. Но та эпоха ушла и не вернется. А вопрос остался. И я отношу себя к тем, кто отвечает на него утвердительно. Разумеется, речь не идет о литературной барщине, о работе «на чужого дядю». Я о другом. Большой писатель без большого проекта, без важной темы и глобальной задачи, без миссии, далеко выходящей за пределы личного игрового каприза, — немыслим. Такого не бывает.
Эпоха испытывает — размывом границ между добром и злом, подменой важнейших понятий, разгулом своекорыстия, торжеством человеческого примитива. Стоит ли удивляться, что есть — и растет — неудовлетворенность тем прозябанием, тем убожеством, к которым скатилась русская жизнь в начале XXI века? Она часто характерна именно для молодежи. И ее-то выражают молодые художники слова.
Литература сегодня, как это бывало в России всегда, начиная с середины XVIII века, строит альтернативу русской реальности. Литература создает Россию. Писатель снова призван создавать родину, как умеет и как ее понимает, — создать смысловое поле высокого напряжения — с тем, чтобы заразить, так сказать, значительностью своего опыта читателей, с тем, чтобы пробудить в них чаяние иной, более высокой, благородной, достойной жизни. Пересоздать реальность, вернув понятию «Россия» высокий смысл, вернув России значимость духовного средоточия ойкумены.
Молодые писатели заново открывают для себя необходимость и неизбежность миссии. Возможно — по крайней мере, хотелось бы в это верить — заново складывается чаемое духовное пространство серьезной актуальной напряженности. Мне кажется, оно быстро радикализируется. Сфокусировать действительность в узловых точках современного бытия, сгустить до предела, до экстракта чушь и бред, тоску и веру, абсурд и смысл; заострить конфликт — вот самые реальные и наиболее убедительные способы выйти к такой содержательной глубине, к такой емкости духовного опыта, которые сами по себе встречаются нечасто, стихийно не возникают.
* * *
Жесткое видение драматизма жизни и предельное заострение ситуаций характеризует прозу феноменально одаренной Марины Кошкиной. Сила Кошкиной — в образной пласти-
ке и — особенно — в эффектном сюжетостроении. Лепка характера в каскаде острых ситуаций.
В повестях «Химеры» и «Без слез» она повествует о тревожных, бродячих, изломанных юных душах, вслепую, в окрестной тьме, в городской пустыне, ищущих себя, свое. Они экспериментируют над собой и над другими, страшно ошибаются — и лишь иногда и обретают нечто неотменимое. Эта тревожная неопределенность создает поле напряженности в повестях Кошкиной. Но в них есть и живое сочувствие автора мятущимся героям. Есть то, что (знаю не понаслышке) вызывает у читателя живое волнение и слезы. Впрочем, мне рассказали и о священнике, который усиленно рекомендовал своей пастве читать повесть «Без слез», которая, кстати, отмечена третьим местом в номинации крупной прозы премии «Дебют». На счету Кошкиной также поощрительный диплом премии «Эврика». Немало писали о ней критики, с похвалой отзывался один из самых известных в стране педагогов Евгений Ямбург.
Герой Кошкиной открыт самым простым вопросам: «Я не отличаю добра от зла. Хорошее от плохого. Черное от белого. Не на кого мне равняться! Не на кого! Где тот эталон, которому можно подражать? Его нет! Почему нельзя убивать людей? Посадят! А других причин нет. Воровать можно, лишь бы не поймали. У меня вообще есть моральные ценности или нет? Где они? Отсутствуют. Потому что я совершенно одна. Кому подражать? На кого равняться? Нет идеалов. Нет образцов».
Увы, родители и деды, «предки», молодым не помощники. Такой вывод напрашивается, когда читаешь эту прозу. Замечено: у большинства молодых авторов герои — безотцовщина в прямом смысле, сироты, или сироты при живых родителях. Отцов, с которыми могли вести свои споры дети, просто нет. Они устранены из возможного поля дискуссии. Даже при формальном наличии. Обыватели, ничтожества, подкаблучники. Да и матери не лучше. Герой повести «Химеры» называет мать не иначе, как «эта женщина».
Кошкина хорошо начала в 2005—2006 гг., а потом взяла паузу. Пока она ее держит, хо-
тя скорей всего ярославский читатель в не-
далеком будущем познакомится с ее уже
написанными, но еще не опубликованными вещами.
* * *
Лирико-исповедальная проза (с тем или иным отлетом, при той или иной дистанции между героем и автором) кажется мне наиболее значимой и ценной в том случае, если нам предъявлен герой большого взыскания, герой идеалистической складки, алчущий и страждущий… По-своему эту драму несовпадения идеала и реальности воплощает в своей прозе Борис Гречин. Написал он немало (шесть повестей и пять романов, а может, уже и больше), пишет неровно, многие его тексты можно найти в Интернете, как и статьи о нем ярославцев Л. Дубакова и Е. Смоленской. Почти всегда в центре повествования у Гречина — искатель и мечтатель не от мира сего или духовный лидер, гуру, высоко летающий на своих белых крыльях, но плохо разбирающийся в земных делах и увядающий от ядовитых испарений земли. Еще один ракурс прозы Гречина — возвышенно-романтическая любовь, нечто такое в духе ранних немецких романтиков, неосязаемо-прекрасное.
Отчасти это сближает Гречина и Анну Лавриненко. Ее герои тоже молоды и тоже любят. Позволю себе привести отличную характеристику дебютной повести Лавриненко «Восемь дней до рассвета», принадлежащую нашему живому классику Владимиру Маканину: «Казалось бы, что обычнее! Девушка и парень одинокие и обыкновенные в современном городе… Как принято сейчас говорить, невостребованные, они придумали себе любовь, легкую влюбленность друг в друга. Для этого они однажды сбежали… И чувство возникло. Хрупкое и каждую минуту готовое рассыпаться, исчезнуть, аннигилироваться само собой. Как-никак оба помнят, что началось с придумки и самообмана… Но точно так же они помнят, что каждый из них одинок, что оба они некрасивы и невостребованны. И что ничего, кроме этого договорного чувства, у них в жизни пока что нет. Читающий вдруг понимает, что он подвешен на волоске вместе с их чувством. Жаль их!.. Заодно и самому тревожно. И неуютно от их хрупкости… а что, если всякое взаимное чувство в нашей жизни отчасти договорное?..».
Повесть была напечатана в журнале «Знамя» в 2007 году, получила резонанс. Потом у Лавриненко были еще три повести в разных журналах. Новое качество в них рождается с некоторым трудом, хотя ниже достигнутого уровня автор, пожалуй, не опускается.
* * *
Особый и яркий случай в современной молодой прозе — творчество Елены Георгиевской. Ее «послужной список» впечатляет. Это и лонг-лист «Дебюта» (2006), и шорт-лист «Ильи-премии» (2006), премии имени Астафьева (2010). Она — лауреат премии журнала «Футурум Арт» (2006), «Вольный стрелок» (2010); в 2006 году получила грант имени Анны Хавинсон, стипендиат Министерства культуры РФ (2010). Публикации в журналах «Дети Ра», «Футурум Арт», «Литературная учеба», «Волга», «Волга — XXI век», «Нева», «Урал», «Слова» (Смоленск), а также — в интернет-журналах, коллективных сборниках. Плюс книги: «Луна высоко», «Диагноз отсутствия радости», «Место для шага вперед», «Хаим Мендл», «Вода и ветер», «Инстербург, до востребования», «Форма протеста» (издательство Franc-tireur USA, 2009), «Вода и ветер» (2009). Кажется, Георгиевская — единственная из нашего списка, кто закончил Литинститут.
И притом, как сама она о себе пишет от первого лица, «несмотря на довольно многочисленные для своего возраста публикации, ощущаю себя маргиналом. Нет, это не чувство собственной ущербности — это значит, что ты в гробу видал и классическую традицию, и модные тенденции. Ты можешь себе позволить пародировать их, допускать аллюзии и реминисценции, но от них независим».
Георгиевская — отчаянный и злой бунтарь. Категорический протестант. Непримирима к фальши, к компромиссам, к любой форме сделки с отвратительной реальностью. Ее бунт простирается далеко, и отнюдь не самые последние цели ее атаки — бытовой маразм, национальное чванство любого сорта, тупая провинциальная спесь или убогая политическая требуха. Богоборчество — вот ее крайний предел. В сущности, это даже неожиданно. Такого почти уже нет в нашей литературе. Хотя, пожалуй, понятно, что спровоцировано оно елеем и ладаном, питается воинствующим клерикализмом в духе о. Всеволода Чаплина. А суть его — война за свободу личности, против любых форм детерминации. (Разумеется, мы учтем для себя и заметим в скобках, что эту свободу подарил человечеству Христос. Так что, возможно, в итоге Он и наш автор поймут друг друга… Но обсуждение этих вероятий уже не предмет для критика.)
Самые интимные темы Георгиевской коренятся в одиночестве и отщепенстве, избранных ею как способ жизни художника. Еще одна ее автохарактеристика такова: «Человек без пола, возраста и национальной идентичности. Один мой знакомый сказал, что формальные привязки к чему-л., имена, значения и статусы — это такие большие знаки тире на пути к Пустоте».
Ее герой всем чужой. Ее темы связаны с изучением возможности любить в мире без любви, возможности надежной близости в мире повсеместного вероломства, возможности понимания в мире всеобщего отчуждения. И если сквозь риторику и патетику поношений, сквозь тотальность бунта выйти к этой тихой и отчаянной ноте, то поймешь, что Георгиевская — пожалуй, самый глубокий экзистенциально ориентированный автор в своем поколении русских прозаиков.
* * *
Я б сказал, альтернативная литературная стратегия у однофамильца великой и ужасной Дарьи Донцовой, Андрея Донцова. Его проза — все три книги — расхристанно-беззаботна, эротично-сатирична, остроумно-эксгибиционистична и нацелена на читательский успех. Каковым временами и пользуется. В рекламном стиле об его первом романе «Комплексе Ромео» (2008) в инете писали так: «Динамичный, аппетитный роман из недр питерской театральной тусовки, московского криминального дна, ярославской глубинки, тайских курортов и мужского эго». А сам роман один из сетевых критиков, Дж. Тарталья, не без оснований охарактеризовал так: это «длинная и временами запутанная история, высветившая в череде сценок-картинок несколько лет из жизни Александра Мелькова, юноши 28 лет от роду, без определенных целей в жизни, источников дохода и места под солнцем. Что придает оттенок легкой шизофрении его криминально-порнографической истории, вобравшей в свою орбиту дневник путешественника, театральные записки, этюды из жизни питерской богемы, мемуары о деревенском детстве, трагифарс о русском бизнесе за рубежом, элементы детектива и социального романа о проблемах молодежи».
Странствия героев Донцова из постели в постель, мимо соблазнов большого города,
не минуя почти ни один из них, — легкомысленны и ни к чему не обязывающи. Они реализуют принцип, выраженный автором по-английски, как бы эвфемизмом: Find-Fuck-Forget. То есть «поматросил и бросил». Или борются с этим принципом. Я так до конца и не понял.
Хотя нельзя сказать, что при этом автору не удается кое-что сказать про окружающую нас действительность в сатирико-очерковой манере. К тому же нужно отметить, что, двигаясь от «Комплекса Ромео» к «ТНЕ Офису» (2009) и к «Столичной: Первому сорокаградусному роману» (2010), автор набирает черт и свойств сатирической фантасмагории. И вообще вопиюще талантлив, ничего не скажешь.
* * *
Самый старший из тех, кто были открыты в Ярославле благодаря филатовскому форуму молодых писателей, — Сергей Вербицкий. Он поздно начал и вроде бы не очень успешно продолжает. По крайней мере, с публикациями у него далеко не все ладно. И это огорчает. Но дело в том, что одаренность Вербицкого — особого рода. Он литературный экспериментатор, упорный стилизатор, искатель новых возможностей литературной речи. В этом он напоминает столь же далекого от читательских масс эзотерика Евгения Кузнецова…
Так, например, выполнена довольно уже давняя, фирменная вещь Вербицкого «Архангельские поморы» — затейливое приключенческое повествование, адресованное вроде как детям, но при этом написанное языком, которым может насладиться далеко не всякий взрослый читатель. Но красиво же, как песня: «Восходит солнце, и радость в дом приходит. А на реке уж лед тронулся с места, пошел искать большую воду. Великое веселье в Архангельске-городе в эту пору сотворяется. Народ посадский выходит на улицу, гулянье повсюду заводит, песни слышны, а гармонь, так та поет без умолку. Торопится река от панциря белого избавиться, в узких местах скопиться, и затор получается. Тужится река, тужится, да все зазря получается, только места прибрежные затопит и все деревеньки близлежащие. К маю все это безобразие заканчивается, вода замутится, желта становится, но к лету протечет и чиста будет».
И вот так пространно и красиво дальше, дальше, дальше… Текст частично доступен в инете, на сайте интернет-журнала «Пролог», а целиком эта проза опубликована книжкой совсем недавно.
Покойная Татьяна Бек так напутствовала начинающего автора: «Сказы Сергея Вербицкого — это сильная, насыщенная, пряная проза, написанная с глубоким знанием быта, ремесел, этнографии и духа петровских времен. Нелегко новому писателю сказать свое — самобытное, а не эпигонское — слово в исторической литературе. Вербицкому — удалось. Его прозу хочется читать медленно, смакуя и пробуя каждое слово (и в основном повествовании, и в нестандартных комментариях) на зуб. Перед нами не кукольный театр давних времен, но живая жизнь, взрыхленная талантливым потомком заново... Труд, предпринятый автором, огромен и вдохновенен — густая, витиеватая, семантически выношенная стилизация. И здесь, как сказал бы поэт, «кончается искусство, но дышит почва и судьба».
Замышлял Вербицкий написать и роман об Иване Грозном, причем не иначе, как языком XVI века. Аутентично, так сказать. Но, кажется, удалось его от этой затеи отговорить. Хотя не уверен.
Во фрагментах видел я также другой его проект — психологически до предела детализированное повествование о мытарствах маленького человека в потемках современной жизни, наедине со смертью.
Проблема Вербицкого в том, что он погружается в свой замысел с головой и далеко не всегда в силах привнести в него какой-то обобщенный смысл, внятную идею извне.
Некоторый резонанс после выхода книжкой в Москве получила лишь его самая ранняя и простая история, «Морской лев» (2006), — о сверхсекретной советской атомной подводной лодке. Сюжет вполне фантастичен. Это своего рода историческая фантасмагория. Лодка была построена в 1990 году втайне от высшего руководства СССР гэбистами-противниками «перестройки и гласности». Здесь служат высококлассные специалисты, совершившие преступления и спасенные КГБ от наказания. Когда начинается антииракская операция мирового сообщества «Буря в пустыне», «Морской лев» направляется в Персидский залив. «Последнее чудо советской научной и технической мысли должно было обеспечить проведение в жизнь политической стратегии консервативных партийных функционеров из Комитета государственной безопасности и Министерства обороны, действующих независимо от государственной внешнеполитической деятельности Советского Союза и настроенных на выполнение подписанного с Ираком в 1971 году договора о дружбе и военной помощи, подтвердив тем самым свою приверженность старым коммунистическим идеалам советской эпохи». По приказу сверху «Морской лев» вступает в борьбу с натовским флотом и даже уничтожает американский авианосец, что едва не приводит к третьей мировой войне.
Ну, вот так. Безумие эпохи в одном флаконе.
* * *
Молодость — обещание. Обещание иной и, возможно, лучшей будущности. А если речь идет о молодом писателе, то обещаны и новые литературные горизонты, новые пространства опыта. Здесь я говорил в основном о тех авторах, чьи известность и признание уже вышли за пределы нашего края. Но я вспоминаю и об Анне Толкачевой из Углича, об ярославце Евгении Барышеве... А еще — о поэтах, разговор о которых впереди, но которые зато довольно широко представлены в двух первых номерах журнала. Хотя и не все. Молодое поэтическое пространство края — это Алексей Бокарев и Любовь Серикова, Евгений Коновалов и Надежда Кудричева, Надежда Папоркова и Ольга Люсова, Анастасия Орлова, Тимур Бикбулатов и Владислав Шашкин… Ориентиров здесь меньше, чем в прозе, и разобраться в них еще предстоит.
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/npmf/






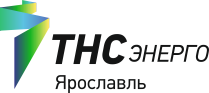



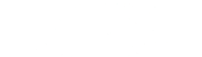
Комментарии: