Константин КРАВЦОВ. Птичий человек. Памяти поэта Василия Галюдкина
© К. П. Кравцов, 2011
Птичий человек
Памяти поэта Василия Галюдкина
«Птичий человек» — назвала его моя жена после того как Вася в первый раз провел несколько часов на нашей ярославской кухне. Помните, у Тарковского: говорили, что в обличье у поэта нечто птичье? Это о Мандельштаме. Но «птица», каким виделся поэт-мученик современникам, и «птичий человек» — не совсем одно и то же. Да и много ли общего у Галюдкина с Мандельштамом? Сами собой напрашиваются параллели с Есениным и крестьянскими поэтами, с Рубцовым — именно в русле этой традиции и жил — не только писал, но и жил — Галюдкин; и его стихи, и его жизнь — раскрытие того же мифа о русском поэте из глубинки, непременно пьющем и неблагополучном, заканчивающем, как правило, трагически.
Поминаю собратьев вином,
Поднимаю последнюю кружку.
Жизнь Васильева — собственный дом.
Лукина — областная психушка.
Костя, Костя, распятый Сергей
Не видал свои книжки при жизни.
Вы погибли — и рыночный зверь
Вашей кровью торгует в Отчизне.
Что сказать тебе, бедная Родина?
Чтоб поэтом читаемым стать,
Надо пьяным, голодным, чуть тронутым
Прописаться в эфир и печать.
Но вот что любопытно: заносчивый Мандельштам, тосковавший по мировой культуре и презиравший литературный официоз, называвший его не иначе как мразью, дружил с очень немногими, и среди
этих очень немногих был Сергей Клычков. Последний как-то заметил: «Мозги у вас,
Осип Эмильевич, все-таки еврейские». Мандельштам согласился: «Да, но стихи — русские». И Клычков это с радостью подтвердил.
Так вот о сходстве-различии: во всех поэтах, какими бы разными они ни были, есть «нечто птичье»: легкость на подъем, хрупкость какая-то, неотмирность. Дети неба. Все они, какими бы ни были и как бы ни выстраивались их отношения с «большими систе-мами», государством и его институциями, — все они «не от мира» сего. Даже старик
Державин, дослужившийся до министра, сделавший блистательную карьеру, начав
с подавления Пугачевского бунта. Пегас — крылатый конь и потому тоже скорей пти-
ца, чем конь. Поэты не столько ходят по земле, сколько парят, за что и расплачиваются
в полной мере.
Грех к душе, а грязь к подошвам липнет.
Заболит душа, подошва скрипнет! —
Это я к святым местам России
От дорог накатанных бреду...
Не цветы — а стрелянные гильзы.
Не трава — лишь стрелы на беду.
Прохоровка, поле Куликово,
Кабаки, базары, монастырь,
Обелиск, сарайчик пустяковый,
Памятники, площади, пустырь —
Это все, чем я неизлечимо
Болен так, что не простят мой грех,
Грех бродяги — нет почетней чина
Для моих владык — дорожных вех...
Самый запомнившийся эпизод: везу как-то Василия на такси в наркологическую больницу (других вариантов нет); подъезжаем, и тут он вдруг начинает упираться: не пойду и все! Пришлось вытаскивать силой, что было сделать легко, даже слишком легко. Эта-то легкость и поразила: я сгреб не человека — птичье тельце... Он был почти бесплотен, невесом: маленький, худющий, в больших очках... Да и сам себя он, похоже, ощущал птицей:
Скоро, скоро грачи до рассвета проснутся,
Голоса их сольются с молитвой...
Господь,
Горсть монет положу я в церковное блюдце...
И уйду! И проснется крылатая плоть!
Одно время Вася жил при монастыре, а еще — при каком-то из сельских приходов, но — уходил, улетал на волю: золотая, а клетка...
Пересказывать стихи — дело бессмысленное, ненужное и неблагодарное, но, ве-
роятно, кто-то из присутствующих вспомнит, а еще лучше прочитает стихотворение
про таракана, с которым поэт, лежа в наркологии, делится хлебом — подкармливает, видя родство. Рефреном звучит строка «Всякое дыханье хвалит Бога». Найдите, прочтите. Поэт и таракан... Платон предлагал гнать стихотворцев из своего идеально соответствующего мирозданию Полиса — современный Город решил «птичий вопрос» цивилизованно: никто никого никуда не гонит; приспосабливайся, адаптируйся к дусту идеологии успеха или — или прав у тебя не больше, чем у таракана, и перспективы —
те же. В современном социуме «заслуженные деятели культуры» могут, например,
проливать слезы об участи бездомных собак, но не «птичьих людей». О государстве и
говорить не приходится: какие там поэты, когда не нужны ни русский балет, ни вир-
туозы-исполнители, ни художники — никто и ничто живое? Мутировавшему царст-
ву хама нужно лишь бабло и только бабло — сегодня, сейчас. А после нас — хоть по-
топ; только бабки — как желуди роющей корни дуба свинье из басни, но это — дру-
гая тема.
Хорошо, что тут ветки шиповника.
Хорошо, что тут капли дождей.
Хорошо, что тут нету чиновников,
И господ, и рабов, и вождей.
Одно время я устроил Васю на работу в «Ярославские епархиальные ведомости» — из этой благотворительной акции по понятным причинам ничего не получилось, но какое-то время Вася держался. Писать он, насколько помню, так ничего и не написал — писать он мог только стихи, — но как-то помогал, числился, всегда был в костюме и при галстуке. Когда запивал и вдруг видел издалека меня идущим навстречу, переходил на другую сторону улицы и нырял в первую подвернувшуюся подворотню. При этом — те же костюм и галстук, вообще никогда я не видел его неопрятным. Достоинство. «Пускай я умру под забором как пес», но — при галстуке.
В моем ярославском архиве («не надо заводить архивов» — сами заведутся) есть несколько его писем, написанных из психушки — его почти постоянного места жительства. Другим была рабочая общага неподалеку от моей квартиры: это соседство было, что называется, промыслительным — несколько раз удалось вытянуть Васю из непростых ситуаций, чреватых вызовом санитаров и / или милиции.
С потолка штукатурка слетает на кожу,
И ржавеют головки гвоздей на стене!
Криминальное время. Бандитские рожи.
Воровские набеги. Отчизна в дерьме.
Я живу в комнатушке губернской общаги.
Я в обносках брожу по российской земле.
Пью вино от тоски. На листочках бумаги
Я стихи болевые слагаю во мгле.
Я бы умер давно: стихолюбы России,
Как мышонка от кошки, спасают мой дар.
Штукатурка летит. Пол трещит...
И косые
Облысевшие стены общаги, кошмар...
С моим переездом в Москву наше общение прервалось, но Ярославль для меня не-
изменно связан с «птичьим человеком» — птичкой-невеличкой в очках, особенно ог-ромных на его исхудалом лице. Общались мы в основном на ходу, на бегу, на лету, делая посадки в парках (обычно — осенних) с бутылкой или банкой пива — двумя или одной
на двоих, иногда — в дешевых кафе. Литинститут, где он учился в семинаре Юрия Кузнецова, «наши бараны», русская классика, ну и, конечно, Россия — обычный набор тем провинциальных «русских мальчиков» (одному под, другому за сорок), потершихся в столице, но не прижившихся в ней. Новой эпохе такие «птицы» были не нужны, мы это знали; точкой опоры была Церковь и поэзия — и для меня, и для него, но в разных пропорциях.
И башни монастырские, и речка,
И храм пророка твоего, Господь!
Умру — душа моя вольется в вечность.
Умру — войдет в суглинок моя плоть.
Там не увижу ржавого железа,
Творцов помойных ям, тюремных крыш,
Печатей, паспортов, квитанций ДЭЗа...
Умру, Господь, и Ты меня простишь?
Последняя наша встреча — в декабре 2003-го: ко мне приехал Иван Жданов, живой классик авангарда последнего двадцатилетия канувшего в Лету века; три, как минимум, дня читали стихи, скажем так. Запомнилось из тех дней утро в продуктовом магазине — утро моего дня: нищий Вася решил сделать мне подарок — фляжку коньяка, и — сделал, как я ни протестовал, убедив меня, что так надо, что не такой уж горький он пропойца, чтобы не купить другу коньяк на день рожденья.
И вот Васи нет — нет здесь, что не значит — нет среди нас (сейчас, когда пишу эти строки, ощущаю его присутствие, вижу его, птичьего человека, в очках и в костюме). Останется ли он в истории русской изящной словесности — вопрос праздный и в данном случае неуместный, но отвечу: останется. Евтушенко, когда-то покровительствовавший Васе, включил его стихи в свои «Строфы века», что-то о нем написав (нет под рукой, а то бы процитировал). Будет ли востребован «племенем младым, незнакомым» — не берусь судить, кто его знает, это племя, на что оно западет, на какие раритеты, какого воздуха захочет, устав от отравленного и отравляемого все больше... Да и не суть важно — особенно ему теперь.
Горит звезда над Заполярным пирсом.
В заливе Кольском дремлют корабли.
Зачем я жил? Писал стихи? Родился?
И ждал добра от горестной земли?
Не могу отделаться от мысли, что там, куда он ушел, все поэты видят друг друга и, естественно, что-то друг другу читают, не исключено, что и выпивают точно так же, как здесь, на земле, но что и сколько — загадка. Вообще что мы знаем о том, что там? Одни намеки, аллегории, иносказания... Тропы. Но почему-то не возникает сомнения, что все птицы — там, на зимовье, — собраны в одну стаю и ждут весны, когда вернутся — на новую землю под новым небом.
У Васи в одном из самых, а может, самом пронзительно-исповедальном его стихо-
творении есть такая строка:
Отобрали перо и бумагу— вот ад.
Там у него перо и бумагу — единственное, что было у него в здешней жизни, — уверен, не отобрали. Не посмели. Не попустил Господь. Ведь как Василию без пера и бумаги? Господь — милосерд. А значит, если есть перо и бумага, ты — в своем птичьем раю, птичий человек, птичья душа. Остальное — так ли уж важно?
Стихи и звезды остаются,
А остальное — все равно, —
сказал другой поэт, пивший горькую в «лучезарном небе над Ниццей», в «богомерзском Йере» и умерший в доме для престарелых (роскошном по сравнению с нашими). Остается то, что над временем, над его все уносящей в своем течении рекой. Стихи и звезды. Любовь, что их зажигает и движет. И все остальное живо лишь этой любовью, причастностью ей. А значит — тоже остается. В стихах, в музыке, в красках, камне, в той памяти, которая не скудеет, не истощается, как наша человеческая память. Вечная тебе память, птичий человек.
Константин Кравцов,
член Союза российских писателей
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/nq0u/






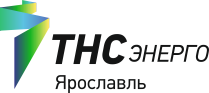



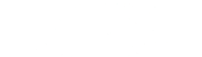
Комментарии: