Валентина ЯНЕВА. Все мы солдаты. Повесть
Валентина ЯНЕВА
Родилась в Москве в 1968 г. Школу закончила в Болгарии. Училась в университете имени Святых Кирилла и Мефодия (Велико Тырново). С 1993 г. живёт в Рыбинске.
Работала в детском доме, преподавала в детском православном просветительском центре «Истоки». Сейчас корреспондент газеты «Рыбинская правда».
С начала 2000-х гг. занимается в Рыбинском литературном объединении имени Н. Якушева. Проза публиковалась в журнале «Русский путь» (2007), в газетах «Ярославская неделя», «Курьер новостей».
© В. Я. Янева, 2012
Мы все солдаты
Повесть
Жил себе человек и жил. Жил как все. Особо не заморачивался, шёл налаженной колеёй. Вдруг — трах-бабах! — как обухом его обрушило, всего перетряхнуло. И стоит он и видит, что больше так жить не может. А как? Как ему жить, если он по-другому и не жил никогда?! Куда идти, если он всю свою жизнь этой вот тропкой шёл, и все кругом — соседи, родня, дядья, кумовья, да что там, весь народ — весь век этой тропкой идут?.. Куда ему? Как? Зачем?
…До сорока лет худо-бедно я дожил. Не то чтоб свою жизнь я считал идеальной. Жил как все. Ну, выпивал. Кто не пьёт? Зарплату, бывало, просаживал. На этой почве скандалы с женой.... Так ведь они, бабы, всегда чем-то недовольны, им сколько ни принесёшь, всё мало.... Вадьку и Нинку, случалось, колотил под пьяную руку. Ну, мне в детстве тоже от отца попадало. И ничего, вырос. Живу. Иногда и Надюша, жена, с фингалом на глазу ходит. И это у нас не бог весть какое чудо, мало ли чего в семье бывает... Словом, жил. Жил, особо не заморачивался. И так бы и прожил, если б не эта побируха.
А, может, она и не побируха, чёрт её разберёт, кто... Увязалась за мной какая-то в переулке... Ведь бывает, идёшь — и спиной чувству-
ешь: кто-то за тобой след в след. Так и я. Всё было нормально, шёл себе, в кармане получка. Вдруг, чувствую, что-то не то. Будто кто за мной — шаг в шаг. Обернулся — точно. Какая-то женщина. Женщина так себе, но взгляд у неё... не могу сказать. Не только спиной, будто и кишками, и всем нутром чувствовал: смотрит она на меня. И идёт, и идёт за мной. Чёрт! Чего ей надо? Денег, что ли?
Остановился, она тоже замерла. Пошёл, она — за мной... И второй, и третий раз останавливался. Наконец взбесился. Повернул, и к ней. Стоит, как столб. Одета не пойми как, во что-то тёмное закутана. Худая, щёки втянуты. Но глаза — два рентгена. И смотрит на меня с горькой усмешкой.
— Тебе чего надо? — спрашиваю. — Денег? Н´а тебе червонец, и отвали.
Она усмехнулась:
— Мне твои деньги не нужны.
— Тогда чего тебе? Чего за мной тащишься?.. Давно не били?
Она на меня посмотрела и говорит:
— А ведь ты, Виталий, слепой!
Меня вдруг холодом пробрало. Чувствую, что-то не то. Чувствую, надо бежать подальше от этой бабы — а ноги пристыли.
— Ты кто такая? — спрашиваю.
А она усмехнулась и говорит:
— Думали о тебе, как же тебя пробудить... У тебя ведь душа шкурой, как у носорога, обросла. Вот и думали — как до живой мякоти добраться?
Говорит спокойно и в глаза мне смотрит. У меня мурашки по коже, но стараюсь виду не подать. Подбоченился, спрашиваю:
— Кто же так обо мне задумался?
Она усмехнулась:
— Есть кому... Думали — чем же тебя пронять? Честью, благородством — этим не прошибёшь, уж больно ты задубел... Честолюбием? Такому, как ты, честолюбие — такого натворишь... И решили, что одной только жалостью тебя можно пронять... И вот она я. Жалость я, Виталий. Кровная, смертная... Отныне с тобой навеки.
Меня от страха затрясло.
— Отстань! — кричу. — Отстань от меня, дура!
— Нет, Виталий, не отстану. Теперь уж не отстану. До смертного конца с тобой, несокрушимо.
И рукой мне по глазам провела. Будто сняла что-то.
— Ну вот теперь и смотри... Теперь и живи.
И пропала... Пошёл я. Иду и думаю — ерунда, привиделось. Всё в порядке. Только что-то не то. Не то, и всё тут. Будто от сердца моего отщипнули кусок. И дырка щемит и ноет. И мысли такие в голову лезут: «Дурак я несчастный. Что из своей жизни сделал?! Валяюсь в грязи по уши, как свинья... Бедная моя Надя! Что я с ней делаю! А дети! Что ж я их, бедных, всех мучаю!»
И по щекам что-то катится. Тронул рукой — мокро... Смотрю вокруг. И всех жалко, всё жалко. До того жалко — будто гвоздём сердце корябают... Улица голая. Тополя все повырубили. Зачем вырубили? Хрен его знает. Дома обшарпанные. Стоят себе равно-душно, с безнадёжностью какой-то, словно лучшего и не ждут. И в этих домах люди рождаются, живут, умирают... Ах, Господи!.. Мусор под ногами, окурки, плевки. Люди по этому мусору ходят — привыкли. Старушонка у магазина стоит, стаканчик держит. В стаканчике мелочь на дне. Старушонка трясётся... Тряпьё на ней намотано, из-под тряпья — глаза. Жалкая... И опять мне гвоздём по сердцу. Ну как такой старухе на улице стоять, милостыню просить?! Ей бы дома в тепле сидеть, греть старые кости. Внукам носки вязать...
Я к ней подошёл.
— Ты чего, — говорю, — бабушка, такая старенькая, тут стоишь? Сидела бы дома.
А она в комочек вся сжалась, глаза на меня подняла и шелестит:
— Голодная ведь я, сынок... Два дня не емши...
— Разве у тебя пенсии нет? У тебя пенсия должна быть.
— Пенсию всю сын отобрал и пропил... И меня ж потом прибил.
И завыла тихонечко, будто собачонка заскулила.
— Каблуком твоего сына надо раздавить, — говорю.
И тут же жалко стало: она мать, каково ей это слушать.
— Ладно, — говорю, — бабушка, не горюй. Он это спьяну. Потом проспится, сам же тебя и пожалеет.
Она обрадовалась, головой затрясла:
— Пожалеет, пожалеет!.. Он у меня хороший...
Я чуть в голос не заревел. Сунул, не глядя, два червонца и пошёл прочь.
И опять то же — будто из сердца кусочек выщипнули, и дырочка ноет, кровью сочится. Иду и думаю: что ж это такое?! Старуха жалкая... Сын этот... Дубина, наверно, здоровая. Пенсию у старухи отобрал и с большого ума пропил. Потом пьяный пришёл — и давай мать бить... Дурак ты, дурак! Помрёт мать — взвоешь ведь! Головой будешь биться, башкой своей глупой.
И жалость, прямо не знаю, прямо смертная — и к бабушке побитой, и к сыну её, дураку. Иду и против воли с этим сыном разговариваю, корю, усовещиваю:
— Дурак ты! Помрёт мать, ниже грязи опустишься. Будешь ходить вшивый, драный... Квартиру у тебя, глупого, отберут, обведут вокруг пальца и помрёшь где-нибудь в лопухах. Или свои же дружки ухайдакают, те, с которыми пенсию пропивал.
И всё он у меня будто перед глазами стоит, сын этот. Здоровенный парнюга, пахать на нём можно. Такому бы работать за троих, а после работы садиться за стол да уминать по полкастрюли борща. Да детишек краснощёких нарожать… Эх, как жить можно! Как жить можно бы! А мы что, Господи?! И жалость меня томит, и печаль смертная, и на плечи будто взвалили груз немыслимый.
Вижу, церковка стоит, приютилась посреди домов. Белая, луковки голубые... Я так и бросился к ней. Вбежал-ворвался. Люди заоборачивались — что за дикий такой? А я стал у стены и стою. Передо мной икона. На иконе — Божья Мать. И так смотрит, как будто говорит: что же вы, люди, над собой делаете?! И в глазах ни гнева, ни упрёка. Только жалость.
Я тут всё забыл. Повалился на пол и завыл отчаянно... Люди всполошились, окружили меня. Кто-то батюшку ведёт:
— Вот, батюшка, человек тут сокрушается сверх меры.
Батюшка меня поднял за плечи и повёл за собой. Привёл в какой-то закут и спрашивает:
— Что с тобой приключилось? Чего ты сокрушаешься?
Высится надо мной: плечи громадные, грива рыжая, борода медью отсвечивает, как самовар. Я смотрю — батюшки! Да это ж Серёга, мой одноклассник!.. Тоже в детстве сорвиголова был хороший. А теперь, вот — борода, крест, парча.
— Серёга, ты? — спрашиваю.
Он меня тоже узнал.
— Я, — отвечает. — Только не Серёга, а с Божьей помощью отец Сергий, настоятель храма Владимирской Божией Матери... Ну, что у тебя приключилось?
Я ему рассказал: так и так, до сих пор жил нормально, не заморачивался, а теперь вдруг тоска на сердце напала, и всё думаю неотступно — что ж мы над собой делаем?!
— Как я жил до сих пор?! Что со своей жизнью делал?.. А жена, а дети?! Сколько их мучал!.. Свинья я, скотина!
— Вот и хорошо, — говорит отец Сергий
— Чего ж хорошего?
— Хорошо, что ты это понял. С этого всё и начинается... Я десять лет назад пил, блудил, даже наркотой баловался. Жил в каком-то угаре. В один день очнулся — вижу, стою в церкви и реву в голос. С того и стал приходить в себя... Года четыре тому принял сан.
— Батюшка, а знаешь — почему я пил?
— Ну?
— Не заморачивался потому... А ещё... Ну, не буду я пить — и что? Живу я — и что? Кто я? Да никто!
Отец Сергий встряхнул гривой, насупился и пробасил:
— А это — не твоё дело... Мы все солдаты. Куда тебя поставил Господь — там и стой... Вот здесь тебя Господь поставил — здесь и стой. Мы все — солдаты. Понял?
Строго так. И впрямь похож на какого-то генерала.
Я ему рассказал, что у меня будто из сердца кусок выщипнули, и теперь у меня сердце от всего болит.
— Оно и должно болеть. Не из железобетона, чай... Оно у тебя коростой заросло, а теперь Бог с него кору содрал, осталась голая мякоть. Всё как следует... Так что живи, раб Божий... К нам заглядывать не забывай. Исповедуйся... За сим ступай.
Руку мне дал поцеловать, вывел из загородки и пошёл куда-то. Я тоже пошёл. Ступил на паперть, стою: позади — церковь, впереди — жизнь, в которой я до сих пор жил. И надо туда идти — а с чем?
Ничего он мне не сказал, Серёга, отец Сергий этот. Я теперь как младенец какой — заново надо учиться ходить, смотреть... Будто вправду с меня кору содрали. И хожу я теперь голый, от коры ободранный, и за что ни зацеплюсь — ранка кровоточащая.
* * *
Вот моя улица, мой двор. Вот мой дом родной — пятиэтажная хрущёвка. Их в последнее время много ругают, мол, ничего хорошего нет в этих коробках. И я это понимаю, а всё равно — мила чем-то эта коробка. Кому коробка, а для меня — сорок лет жизни. Здесь я родился, здесь рос, отсюда ушёл в армию. На торце дома двадцать лет назад намалевал зелёной краской: «Виталик ушёл на фронт». Здесь родились мои дети. Здесь живут люди, с которыми я рос. Спросят: ну и что? Да ничего. Кто-то, может, живёт в особняке или в домике с крылечком и палисадником. А мне влепилась в душу вот эта хрущёвка. Прирос я к ней, врос в неё, и уже мне себя от неё не оторвать.
Дверь открыл Вадик. За ним Нинка затопотала, выбежала в прихожую. На кухне вода льётся — Надя там... Вот они, мои ребятишки, стоят и смотрят на меня. Моя Нинка: платье уже короткое, еле-еле живот прикрывает, колготки, наоборот, сползли гармошкой. Вадька коренастый, а лицо бледное и на лбу, слева, синяк... Помню я, сынок, откуда этот синяк, помню. Позавчера пришёл твой отец пьяный и злой, а ты под руку подвернулся... Вот ваш отец, ребятки. Что ж вы к нему не бежите? Что не бросаетесь на шею? Стоите — от меня подальше, к дверям поближе. Вадик голову пригнул, косит волчонком. Нинка к нему жмётся, и вся наготове — чуть что, заревёт и убежит... Так меня мои ребята встречают. Боятся! Отца родного боятся, вот до чего дошло! Смотрю я на них, как они друг к дружке жмутся и какие они у меня затрапезные... Горло сжало, и бормочу сам не знаю что.
— Ребятки мои! — бормочу. — Р´одные мои! Я вас больше не трону... Я буду добрый, ласковый... Я же ваш папка...
И слёзы глотаю. И руку тяну, чтоб сына приласкать. А он от меня шарахнулся. Нинка взвизгнула — и в рёв.
Тут Надя из кухни выскочила и — коршуном на меня:
— Не трогай детей! Слышь, не трогай!
Вот она, моя Надюша... Я на неё смотрю... Эх, Надя, Надя! Ведь когда-то была красивая! А теперь... Кожа на лбу сморщилась, лицо измученное, резкое. В застиранном халате, волосы висят... Надя! Так ли можно было жить эти годы?! Дурак я, дурак!
— Чего к детям пристал? Опять насосался? Опять?!
Взвинченно так, резко. Вся на нервах... Вдруг вспомнила, даже в лице изменилась:
— Подожди! У тебя же сегодня получка... Где деньги? А?! Где? Просадил?! — и уж побелела вся.
— Что ты, Надюша!.. Вот они, деньги, ничего не просадил... Держи! Ты говорила, Вадику надо куртку, а Нинке сапожки на зиму. Вот, купишь.
Надя деньги взяла и рот раскрыла:
— Ты что, заболел?
А у меня в горле — слёзы. Смотрю, какая она стала, и сердце ноет. Бормочу:
— Надюшенька, родная моя!.. Как жить-то можно было в эти годы! Как жить-то можно было! — и обнять хочу.
Надя рот захлопнула. И лицо стало прежнее. Увернулась.
— Так и есть. Пьяный! Лезет тут... с нежностями... Нажрутся — и нежностей им подавай! Иди проспись!
Совсем не то подумала...
Влетела в комнату, кинула подушку на диван:
— Ложись!
И опять на кухню.
Я посидел-посидел на диване и вышел потихоньку из квартиры.
Во дворе никого, только на трубах Тимоха Ниткин сидит. Ногтём в ухе ковыряет. Скучает. Увидев меня, ожил:
— Ба! Какие люди!.. Виталюха! Подгребай сюда!
И в глаза мне заглядывает:
— Ну что? Сообразим? У тебя сегодня получка...
Тимоха хорошо помнит, у кого когда получка. Памятливый на это. Сам-то не работает. Иногда, правда, устраивается. Вначале ему там всё нравится: работа, хвастает, не бей лежачего, но платят хорошо, и его, Тимоху, сразу оценили и зауважали, поняли, какой он человек. Но уже через неделю он опять целыми днями рассиживает на трубах, окликая прохожих:
— Эй, Валерка! Покурить нету? Жмот ты!.. Кирюха! Покурить не будет?.. Буржуй поганый, вот ты кто!.. Эй, Катя! Покурить дай!.. Чего-чего? Ах ты, стерва! Погоди, я с тобой поквитаюсь! Я тя, шалашовку, ещё подержу в руках...
Если же кто подойдет и спросит:
— Привет, Тимоха! Чего не на работе?
— Да штоб я им стал карячиться?! — взрывается Тимоха. — За такие гроши?! Паразиты! Кровь сосут. Рабочего человека ни во что не ставят! Ты для них не человек — ты для них раб! Скотина!
У Тимохи штук шесть детей, и все от разных жён. Раньше Тимохины жёны царапались получить с него хоть какие-то алименты, но потом плюнули — себе дороже.
Тимоха смотрел на меня нежно и ожидательно:
— Как? Сообразим?
Я покраснел. Никогда такого не было, чтоб я с получки отказался угостить приятеля. И теперь мне вроде как стало стыдно — что Тимоха понадеялся на угощение, а я его угостить не могу.
— Нету, брат! Уж прости, не получится. Я получку жене отдал.
Тимоха открыл рот и оглядел меня, будто видел впервые.
— Правда, что ль? — спросил обалдело.
— Правда.
— Брось мозги пудрить! Так я и поверю. Что ты, как мальчик, все Надюхе отдал... Жмёшься, да?
— Ей богу, хоть обыщи! Хошь, карманы выверну?
Тут Тимоха возмутился.
— Ну, ты даёшь! Не мог хоть паршивую сотню заначить?! Для друзей?!.. На-ко, всё бабе! Не жирно ей?! — ярился.
А я смотрю на кореша, и что-то странное со мной.
Поганый человек Тимоха? Поганый. И я это понимаю, а всё равно мне его жалко. Куда ведь ни кинь — а мы с ним в одной жизни живём, в одном котле варимся. Связаны мы с ним чем-то. Не знаю, чем, но — связаны. Например, у какого-то олигарха за границей миллионы имеются. А у меня их нет и не будет. И у Тимохи их нет и не будет. И не светят мне ни Канары, ни Мальдивы. И Тимохе не светят ни Канары, ни Мальдивы. Что мне, что ему — жить до конца дней в этой хрущёвке. Что мне, что ему — видеть из окна этот двор с жидкими качелями и поломанной песочницей.
Да, Тимоха — скверный человек. Но его дедушка, лейтенант Фёдор Ниткин, в войну прикрыл свой взвод: привязал себя к пулемету и с двадцатью пулями в теле продолжал стрелять в немцев... Об этом в газете писали, ко Дню Победы... А кто-нибудь из Тимохиных сыновей, может, тоже будет героем и поляжет за эти хрущёвки, за эту нашу жизнь, горькую и милую. И значит, не могу я Тимоху ни ненавидеть, ни гнушаться, а могу только жалеть.
— Понимаешь, — сказал я, оправдываясь, — сыну куртку надо, а младшей — сапожки. Вот и...
— Ну-ну! — протянул Тимоха. Теперь он оглядывал меня с насмешкой. — Ин-тересно! Эт-та когда ж ты у нас такой правильный стал?
Я пожал плечами. А сам подумал: может, в самом деле там в переулке эта женщина сняла что-то с моих глаз? Коросту какую... Вот бы и Тимоху подвести к этой женщине и всех моих соседей... Вот бы всю Россию подвести к ней!
А Тимоха поскучнел и потерял ко мне интерес. Если выпивки не будет, какой от меня толк? Но потом воспрянул:
— Слышь! Пошли к Верке. Она нальёт. И не только! — он подмигнул. — Подружку вызвоним... Ту, рыженькую... Чур, подружка моя! А? Пошли?
Я опустил голову:
— Нет, не пойду.
Тимоха криво прищурился.
— Чо так? Раньше хаживал.
Верно. Хаживал.
— Мне их, Тимоха, жалко, — сказал я, — девчонок этих. Им семья нужна, муж, а не вот так вот...
Тимоха постучал себе по лбу:
— Ты чо? Обалдел? Нашёл кого жалеть! Тиу! Да их только ленивый не трахал! Мне Валерка рассказывал... И Кирюха! И Генка!
Я вздохнул:
— Они ведь глупые, Тимоха, девчонки эти. Любви ищут. Думают, что так найдут. Что кто-нибудь их пожалеет и полюбит... А никто не жалеет. Ещё и хвастают: вот как я её, стерву!.. А она ведь тоже была маленькая. И мама ей волосики расчёсывала и в косички заплетала... Не жалеем мы друг друга, Тимоха!
На меня сошло какое-то прояснение. Будто перед глазами небо раскрылось.
— Не жалеем! Потому и пропадаем... Пропадаем ведь мы, Тимоха, пропадаем ни за грош! — я сгоряча ухватил кореша за рукав.
— Пусти! — он грубо дернул руку. — Припадки, что ли, начались?
Отодвинулся от меня. Смерил странным взглядом. И процедил врастяжку:
— Оля-ля!.. С тобой всё ясно!
* * *
Два месяца прошло с той встречи в переулке... Я живу как-то странно. Раньше я просто жил, и всё. А теперь живу — и будто со стороны смотрю на себя и на людей, которые рядом. И тоска меня гнетёт тяжёлая, и горечь, и бессилие... Беспомощный я какой-то стал. В морду уже врезать не могу. Смотрю только на человека — и жалею. И думаю: дурак, ведь не понимает ничего! Не понимает, что мы вот так вот пропадаем!
А ещё... услышал вчера, как Вадька матерится. Как же это страшно — услышать, что сын твой восьмилетний — матом, по-черному! У меня рука было взлетела оплеуху ему закатить. Да так и повисла. Ведь слова эти он от меня слышал! От меня!.. И напрасно я его стараюсь приласкать: отпрыгнет и глядит волчонком. Соседи и знакомые смотрят на меня, как на придурка. Иногда локтями друг друга толкают и перемигиваются:
— Эй, Виталюха! Давай к нам!
Это когда им охота позабавиться. Я знаю, для чего меня зовут, знаю, чем опять всё закончится. Знаю, но подхожу.
— Все молчат! — возглашает Гера Новиков, дворовый остряк. — Тихо. Тишина! Слушаем проповедь... Виталюха, лебедь ты наш белый! Просвети нас, тёмных. Расскажи нам свои теории!
— Какие теории? У меня нет никаких теорий... Не теория это.
— А что?
— То, о чём сердце болит.
— А о чём оно у тебя болит?
— Всё об одном... Не жалеем мы друг друга! Не жалеем! Не держимся друг за друга... И не в водке даже дело. Без водки мы что, больше жалели б друг друга? Не видим, что мы один народ, вот в чём дело!.. Вот человек, и не брат он для тебя, а так... кто-нибудь, и плевать на него... Вот в чём дело-то! Один с горя в петлю лезет, а другой веселится и никого знать не хочет, в упор не видит!.. Раньше мы были — один народ. Будет ли это опять? Как рука: порежешь один палец — всей руке больно. Вот будет ли когда-нибудь так: один человек пропадает — всему народу больно?
Мужики слушают по-разному. Одни со скучающим видом, мол, ты это к чему? Другие ухмыляются ожидательно: ну-ка, чего ещё забавного скажешь? А третьи — с прищуром, с русским себе на уме: ты, мол, болтай своё, а я знаю своё.
— Погоди, голубчик, погоди! Ты что это агитируешь? — встревает Федя Вавилов.
Федя — сибиряк, спокойный и сильный, как паровоз. Федя — справедливый мужик. Никогда я с ним не был на ножах, всегда уважал.
— Что это ты агитируешь? Чубайс, например, нахапал миллионы — и я его должен жалеть? Так?
Мужики смеются и подливают масла в огонь:
— А как же! Обязательно жалеть! Ночей не спать: как он там, бедненький!
— Да что Чубайс! У нас на втором этаже толстосум объявился — сразу две квартиры захапал. Во какие дела!.. У него там два магазина, автомойка, ещё чего-то... Так я и его жалеть должен? Ну-ка, скажи!
Мужики смеются.
— Чего ржёте? — подначивает Гера Новиков. — Я, например, за Чубайса очень переживаю... Вчера даже с женой не получилось... от переживаний.
— А-ха-ха!
— Го-го-го!
— Герка, ну ты и... хи-хи-хи!
Все довольны.
— Так ведь один народ! — говорю я беспомощно.
Слова мои звучат жидко и повисают в воздухе.
— Пропадём же! Пропадём так! — взываю я.
— Брось ты! — морщится Гера Новиков.
Он становится серьёзным, скребёт в затылке:
— Само собой, не всё у нас хорошо… Даже, честно говоря, погано... Но чтоб уж пропадать...
— А я вижу... Вижу — пропадаем.
— Вот беда! — с сочувствием качает головой Федя. — И чо тебя заклинило?
— Не знаю. Не могу больше ни о чём думать... Главное — всё сами, своими руками! Я вижу...
— Тоже мне, — с досадой и насмешкой говорит Гера, — ясновидящий у нас объявился!
— Ага, этот, как его... Нострадамус!
— Ванга, твою мать!
— Да я, мужики, этому сам не рад. Чего б только не отдал, чтобы не видеть. Чтоб по-прежнему...
— Короче, чо добиваешься? — в лоб спрашивает Гера. — Объясни, чтоб мы поняли. Я, например, не понимаю...
— Я сам не понимаю. Только жалко нас всех до смерти... Народ жалко.
— А чего его жалеть? Небось, не околеет. А околеет — туда и дорога! — и с такой залихватской щедростью машет рукой, что у меня на минуту обрывается в груди.
— Не жалко?
— Тьфу ты! Ты и шутку перестал понимать! Чо, пошутить нельзя?
— Дошутимся… — говорю вполголоса
— Кар! Кар!.. А знаешь, Виталюха, ты в погребальную контору устройся! Самое то для тебя. Будешь там стоять над покойниками с постной рожей. А здесь, с живыми, сделай милость, не порть настроения! Люди отдохнуть собрались, а ты...
— Ты, Виталий, не так себя ведёшь! — вступает дядя Сеня Щербатенький, дворник. — Ведёшь себя как... это самое... Ты как человек себя веди: подсядь, прими участие в разговоре... про рыбалку, это самое... про футбол. Человеком будь, человеком! А не как... это самое... как не родной, не наш.
Это мне больнее всего: «не родной, не наш». Бормочу:
— Почему — не ваш? Ваш я... Чей ещё?
— Хрен! Если б наш, тогда бы с нами. А ты как... это самое...
— Что ж мне делать? Вижу ведь, что пропадём так!
— Он опять своё, — это говорит Федя. — Заладил! «Пропадём, пропадём!» С чего
нам пропадать?.. Чем у нас житуха плохая? Сидим, выпиваем. Самогонку тётя Лида налила хорошую, закусь есть... Никто не мешает, никто в душу не лезет... Чем плохо?
Мужики одобрительно смеются. Федя, сграбастав меня, крепко хлопает по плечу:
— Виталюха! Хватит киснуть. Совет друга: ты раньше был парень что надо, а теперь раскис... Жизнь тебе кажется плохой? Посмотри на неё сквозь бутылку — покажется лучше... Брось эту тягомотину. Давай к нам!
— Он не может! — заявляет напыщенно Гера. — У него сердце болит!
— Валидол надо! — подсказывает кто-то.
— Точно! — Гера поднимает палец. — Максим, сгоняй в аптеку, принеси две упаковки!
— Только не слопай по дороге! — острят мужики.
— Зачем? У меня валидол — вот! — Максим поднимает бутылку.
Мужики хохочут. Я молчу. Раньше мне бы тоже было смешно... Федя смотрит на меня по-дружески. Федя — неплохой мужик. Да и другие тоже — разве они плохие? Разве я
им враг? Они ж — мои... У меня и походка такая же, как у них, и волосы того же привычного, слежавшегося с душой цвета волжской песчаной косы — песочные. Я ж всё про них знаю, знаю, у кого где шрам с детства остался... И никого я не хочу обижать, ни с кем не хочу вразрез. Да я их, может, люблю больше, чем они сами себя любят, вот в чём всё дело!
Смотрят на меня ожидающе. Я понимаю, это последняя попытка вернуть заблажившую овцу в стадо. И если я теперь присоединюсь к ним, если сяду вместе, как бывало, на трубах, то буду прощён и опять стану для них своим. И после двух стопок прояснеет, покажется, что — ничего, можно жить, чего не жить? А после третьей — море будет по колено, а я сам — кум королю, сват министру... И понимаю, что, если не пойду сейчас, — всё. Не простят. Понимаю... Но — не могу. Не могу я опять к ним... не могу по-прежнему...
Я отхожу. И спиной чувствую, как взгляды мужиков становятся недобрыми... Я стою в стороне как неприкаянный. Мужики пьют и косятся на меня недобро и насмешливо. Я отхожу ещё дальше, сажусь у песочницы. Здесь я не лезу на глаза, и обо мне забывают. Мужики занимаются своим. Доносятся громкие, залихватские голоса. Кто-то давится смехом. Занимаются мужики своим: смотрят сквозь радужное сияние бутылки, и кажется им, что — ничего, можно жить, почему не жить? И море им по колено... А вон там у подъезда стоит Лиза Хавкина, тринадцати лет, — и дымит сигаретой... А вон там на трубах сидят двое парней и девица. Парни на виду у всех её тискают, хватают за грудь, за ляжки. Девушка в ответ смеётся пьяным смехом... Ребята, ребята, что ж вы делаете?! Что ж мы над собой делаем?! Ребята, пожалейте вы её! Уведите её куда-нибудь, спрячьте от позора! Чтоб не видели этого глаза, чтоб не опускалась голова от стыда... Ребята, своя ведь она. Своя, глупая девчонка. Если вы её не жалеете, кто ж её пожалеет?!
А вон в песочнице пацанчик четырёх лет, а с ним две девочки... Что он им говорит!.. Ах, малый, что ж ты такие слова-то говоришь!.. А как? Мама с папой так говорят, все взрослые дяди-тёти говорят... А детки слышат. Слышат детки... Черти, черти безголовые! Себя не жалеете — детей хоть пожалейте! Никого не жалко! Ни себя, ни детей!.. Эхма! Пропадай, народ!
* * *
Такая для меня теперь жизнь настала: мужики сторонятся, смотрят, словно я кого-то предал. Чужой. Брожу по двору, места себе не нахожу — всюду натыкаюсь на косые взгляды, а во взглядах читаю: чужой! не наш!.. Душа виснет, как тряпка, от этих взглядов, а в теле — разбитость. Будто не взглядами, а палками меня бьют.
Наконец тоска стала выше сил. И решил: пойду в переулок искать её. Ту самую, которая меня во всё это втравила. Не могу я так больше, пускай что хочет делает. Пускай сделает меня обратно слепым, обратно мне эту коросту на глаза налепит.
Буду как все, потому что смотреть со стороны и терзаться — нет больше сил... Жил ведь я раньше. Ну, не понимал ничего, жил как трава — зато и не бредил... Мне одному всё равно такой груз не поднять. За всех в ответе быть не могу. Сердце себе истерзал, от тоски ошалел, изгоем стал — чего ещё? Найду её и скажу: посмотри на меня! Разве можно такое делать с человеком?! Верни меня каким был. Хочу ничего не видеть. Не носить в сердце эту рану, которая всё щемит, щемит — а толку никакого.
* * *
Тоска сгустилась до какого-то космического состояния... Уже темнело, дома стояли чёрные, а окна сделались красные от зари. И ни души в проклятом переулке... И такая в этом страшная, холодная насмешка над всеми нашими делами, над всей нашей жизнью, что сердце стыло...
Вдруг переулок всосал меня, как муху, и потащил... Так бывает с мухой, попавшей в пылесос. Меня тащило вперёд, вперёд, и я чувствовал, что, если попытаюсь остановиться или свернуть в сторону, не смогу. Меня тащило, пока переулок не оборвался, не упёрся в крыльцо дома... Никогда здесь не было никакого дома... И дом какой-то странный. С колоннами, как Дворец культуры, но страшно обшарпанный: штукатурка лохмотьями. Меня подтащило к дверям. Дверь шустро отворилась, и та же сила, которая протащила меня по переулку, втянула внутрь... Комната, в которой я оказался, тоже была странная. Большая, пустая. На стенах ковры, а из-под ковров — драные обои. Как будто нежилую халупу наскоро приукрасили, навели марафет... У дальней стены стол, заставленный бутылками и едой. За столом какой-то господин деловито работал челюстями. Он встретил меня по-свойски:
— А, Виталий! Пришёл!.. Ну, садись, садись.
И стал накладывать мне на тарелку закуски. Был он не толстый — плотный. С круглой головой и сине-бритыми щеками. Подвинув мне тарелку, он снова заработал вилкой. Делал он это уверенно, смачно, деловито. И по этой смачной деловитости, и по лицу его было видно, что он знает толк и в еде, и ещё много в чём. И вообще — умеет жить.
— Понимаю, брат. Всё понимаю, — сказал он, глядя на меня с сочувствием. — Душа твоя пробудилась, встрепенулась, рванулась, как птица, к красоте. Да, брат!.. А кругом — скотство. Распущенность. Безалаберщина. Словом — мрак!.. Ты за них мучаешься, страдаешь душой, а они…
Он махнул рукой и подцепил вилкой грибок:
— Разве они ценят? Разве они могут понять твои благородные порывы?
Господин сокрушённо покачал головой и тут же отправил в рот ломоть копчёной сёмги. И затем будто его озарило:
— А знаешь что? Наплюй на них! — сказал он доверительно. — Ей-богу! Их всё равно не переделаешь — подонки! А ты — дело другое. Ты — мыслящая личность!
Вилка выхватила кусок ветчины, и челюсти снова заработали. Господин выплёвывал косточки от маслин, рылся вилкой в салате, разговаривал, двигал челюстями. Я смотрел, слушал, и из-за этого не было времени подумать — что ему от меня надо? Кто он такой?
— Да ты пей! — он придвинул мне стакан. — Столичная! Это не отрава, которую те скоты распивают в кустах. Пей, ешь! Вот чёрная икра, вот — красная. Не думай, не из заменителей белковых. Настоящая. Давно икры-то не ел? А, Виталий?
— Лет пятнадцать, — машинально сказал я.
— То-то же! Давай, налегай!
Через всю комнату легла тень, будто тёмная птица взмахнула крылом... Теперь за столом нас было трое... Я, плотный хозяин и … женщина. Худая, в чём-то тёмном. И глаза — как два рентгена... Она! Та самая! Та, с которой всё началось. Та, которую искал в переулке... Плотный господин при виде женщины перекривился:
— Довольно нагло с твоей стороны. Тебя, кажется, не звали. У нас разговор конфиденциальный, ясно? Так что, будь добра… — и с глумливой изысканностью указал на дверь.
Женщина не говорила ни слова. Она презрительно глядела мимо плотного.
Хозяин кисло ухмыльнулся:
— Понятно... Воспитанным людям достаточно намёка. А тебе говорят прямым текстом — и хоть бы что... А, впрочем, что с тебя взять. Ты всегда была неотёсана... Ладно! Сиди! Посмотрим, чья возьмёт! — при последних словах злость блеснула в его глазах.
Женщина молчала.
Плотный демонстративно снова заработал вилкой. Но жевал уже не так смачно и держался не так уверенно. В нём появилась какая-то суетливость. Он наклонился ко мне, придвигая тарелки:
— Давай, братец! Сёмга, попробуй, тает во рту! Колбаски! М-м-м! Не колбаса — роза! Ароматы рая!.. А сыр?! Царский! Императорский! Президентский!.. А водка?! Душа радуется!
Хозяин подсовывал мне нарезку. Водка горела прозрачным огнём. Закуски дразнили... Но не говорящая ни слова женщина с прожигающим взглядом смотрела на меня, и я знал, что не должен ничего брать с этого стола — ни крошки, ни икринки. Лучше умереть с голоду, чем взять что-нибудь с этого стола!
Плотный метнул на гостью злой взгляд, криво усмехнулся и снова наклонился ко мне:
— Значит, мучаешься? Душой болеешь? А за кого?!
— За них, за всех… За людей, с которыми рос. С которыми живу.
— Эх, Виталий! — плотный покачал головой. Покачал как человек бывалый, умудренный, сочувствующий. — Да разве ты их переделаешь?! Или у тебя своих забот нет? Устраивай свою жизнь. А им всё равно не поможешь. Хотят пропадать — и пускай пропадают!.. Ты их жалеешь? Чего жалеть-то? Разве они сами себя жалеют?! Им что? Им только одно: надраться — и трава не расти! И ничего ты с ними не сделаешь! Брось ты их. Плюнь!
Говорил плотный господин убедительно и задушевно. И всё, что он говорил, было, вроде бы, правдой. Он, этот плотный, хорошо разбирался в жизни. Но женщина с прожигающими глазами смотрела мне в лицо, и я чувствовал, что всё равно это — ложь. И что не только говорить, даже думать такое — страшная подлость и страшный позор.
— Они — одно, а ты — совсем другое. Они — быдло, так и сдохнут в своей блевотине... А ты, ты можешь подняться высоко! Только, говорю тебе, наплюй на них. Забудь, будто их и нет.
Но навстречу мне горел взгляд — прожигающий, неотступный, неугасимый. И слова плотного не задевали меня, осыпались, как шелуха.
И он заметил это. Бывалость, барственная самоуверенность куда-то исчезли. Он враз сгорбился, потускнел. Теперь он покашливал, мямлил и бормотал какую-то вялую ерунду, как человек, который не знает, что сказать:
— Да-а... Вот так вот... Вот такие пироги... Вот такие вот дела, братец ты мой...
И был уже не плотным, обвис, сморщился. Кашляя и горбясь, поплыл серым дымом. Всё поплыло — комната, стены... И уже нет ничего. Я стою в переулке. И нет никакого дома с колоннами... Темно. И ничего не понято. И ни на один вопрос не отвечено.
* * *
И опять я стою у отца Сергия. Он высится надо мной плотными плечами, и всё на нём блещет — блещет медная грива, блещет крест, блещет малиновая парча. И свечи горят. Сколько золота и блеска, сколько красного и синего кругом! А у меня на душе — тень и смута.
— Батюшка, тяжело! — говорю. — Так тяжело, даже и не знал, что так бывает.
— Ну как же. Тяжело... Первые сто лет, говорят, всегда тяжело. А ты — терпи.
— Не могу терпеть, не по силам мне! Что угодно, только не это!
— Что тебе не по силам?
— Осуждение народа!.. Не могу — врозь с народом!.. Я знаю, они забулдыги, безалаберные... всякие... Но всё равно — народ. И они теперь смотрят на меня, как на предателя: «Ты от нас отшатнулся, ты от нас отвернулся, ты был наш — а теперь не наш!» — говорят. А ведь я с ними — одна плоть!.. Против своего родного я оказался, против своей плоти!.. А ведь я — ихний! Мне себя от них оторвать — мясо от мяса!
Отец Сергий пробасил:
— Ну и чего ж ты делать собираешься?
— Не знаю! — крикнул я. — Батюшка, слушай! Слушай!.. Я им говорю: «Посмотрите на себя! пожалейте себя! Неужели вам себя не жалко?! Детей хоть пожалейте!» А они не хотят. А чего они хотят? Хотят жить и в ус не дуть. Вот чего! Вот чего, батюшка Сергий!.. Значит, что? Значит, мы — вразрез? Значит, я — отступник от своего народа? А?! Не могу быть отступником от своих! Сердце моё этого не выдержит, не по силам мне это. Все мои деды-прадеды жили и оставили в моей крови зарубку-зарок: нельзя против своих! нельзя против народа!.. Я же теперь, получается, — против?.. Я, знаешь, чего думаю, батюшка… Может — обратно в грязь? Лишь бы со своими, лишь бы не глядели на меня как на врага, на чужака…
Отец Сергий наклонил голову.
— Вот как... Что ж… давай... Мало ты по канавам кувыркался, мало своей жене крови испортил... Давай, возвращайся! Ребятишкам синяков прибавишь, жене — седины.
— Так что мне делать? — крикнул я. — Батюшка!.. Слышь... или правда на них плюнуть? Отрясти, как говорится, прах... Чего я себе душу травлю, в самом деле?! Пускай они как хотят... А я буду устраивать свою жизнь... А?
Отец Сергий рыкнул, подобно льву, и словно стал в два раза выше ростом. Вперил в меня страшный взгляд:
— Зазнался! Превознёсся. Давно ли ты сам был таким?! «Отрясу прах»... Давай! Оно, конечно, спокойней... Живи себе. А твои братья пускай пропадают.
Я заплакал.
— Что ж делать? Скажи! Так вот и раздираться?
— Вот и раздирайся, — буркнул отец Сергий. — И получше тебя люди раздира-ются…
И ушёл.
Вот тебе и всё.
* * *
Суббота, нерабочий день. Мужики сидят на трубах. У кого пиво. У кого — пластмассовый стаканчик. А в стаканчике — она, родная. Благодушествуют. В двух шагах — помойка. Они на это не обращают внимания... Тут же, около, крутится Лиза Хавкина тринадцати лет. Ноги тонкие, как у жеребёнка. Глаза намазаны густо-густо, но лицо всё равно ребячье. На шею нацепила бирюльку, губы в помаде. Такая вот скороспелка... И крутится эта дурочка возле мужиков, ну прямо так и лезет — то ей сигаретку надо, то зажигалку, то незнамо что. И всё — хи-хи-хи, ха-ха-ха! И так и выгибается, так и вьётся: вот я — только руку протяни! Словом — сама набивается... Ну, мужики, они тоже разные. Егор, например, поглядывает и хмурит бровь: мол, дурочка, куда ты лезешь, ты же нам всем тут в дочки… И даже пальцем грозит: смотри! Доиграешься!.. Другие подшучивают, и лихо так, не церемонятся — сама напросилась! А Тимоха Ниткин глаза намаслил, смотрит, как кот на сметану, и облапить норовит. Раскатал, тварь бесстыжая, губы на эту дурочку. С Тимохи станется...
Жалко её, Лизку. Был бы отец, взял бы в руки... Да отца нет. А мамаша с кавалерами день-деньской пропадает неизвестно где. Лиза с бабушкой всё время. А что с ней бабушка сделает? Вот всё время Лизка, понимаешь, и крутится около взрослых. Сидят взрослые девки — и эта соплюшка рядом, разговоры их слушает. А разговоры всё об одном... Однажды прохожу мимо, они о чём-то гомонят. И время от времени Лизка встревает. Ну, понятно, как разговаривают. Иногда почище всякого мужика загнут. И Лизка туда же. У тех девах голоса грубые, как у хорошего биндюжника, и привычны им эти слова, как мама с папой. А Лизка — неумело так, голосочек тонкий, писклявый. Щенок-глупыш пытается лаять, как большие собаки, — не получается. Хоть смейся, хоть плачь.
А вчера ещё не легче: гляжу, вместе с Тимохой идут к реке. Тимоха её за плечи обнял, идёт, сигарету покуривает, подлец. А она — так и крутится, так глазами и зыркает: глядите, мол, какая я молодец, с мужиком в обнимку иду!
Дура! Бить тебя некому!
Если бы её мать, Ирка, не шлялась, а сидела дома да смотрела за дочкой — и Лиза была бы другая. А если бы Иркин муж, Михайла, не зарезал собственного батьку и не сел в тюрьму — Ирка бы не шлялась. А если бы Григорий, Мишкин батька, не напивался и не колотил жену и дочь — Мишка бы его не убил. А если бы старик Григорий родился не от пьянчуг, а от хороших родителей — он и сам не стал бы пьяницей и буяном... А если... А если... А если... Хочешь не хочешь, всё равно к этому приходишь: что ж мы сами над собой делаем?! И что мы за народ такой? Или мы проклятые какие?
Лизка эта... неужели так и пропадёт? Скорей всего, что пропадёт... Я много раз это видел — как пропадают... Бывало, крутится во дворе какая-нибудь девочка лет двенадцати-тринадцати. Лицо светлое, милое, взгляд прямой, ясный, детский, такая вся хорошенькая, даже радостно. Только порадуешься на неё, и месяца не прошло, встречаешь — она уже накрашенная, намазанная, на голове какие-то перья вместо волос и взгляд другой — наглый. Смотрит в упор, но не так, как прежде, прямо, весело, как-то по-другому — нагло, бесстыдно, грубо. И каждый раз так тяжело становится. И жалко, жалко — до отчаяния. Я ведь знаю, что с ней будет дальше. Будет сидеть на трубах с такими же накрашенными, только ещё хуже, будет перенимать у них пить, курить, слушать похабщину, будут её хватать и тискать — а потом родит в шестнадцать лет, и ребёнок этим же путём пойдёт... Почему так? Кого тут винить? За что нам такое?..
Режусь об эти вопросы, как об острия, и умом и сердцем. И ничего придумать не мо-гу, впору схватиться за голову, и застонать, и завопить: «Господи! Что ж мы над собой делаем?»
Хоть бы эту дурочку спасти. Остеречь. Я и попытался. Вижу, слоняется по двору. Я её подозвал:
— Эй, Лизавета! Иди сюда!
Она ухмыльнулась, вся закрутилась, заломалась — идёт. А я на неё смотрю: ноги тонкие, плечики худые — воробушек! У меня сердце опять защемило, захотелось ей что-нибудь сказать такое... ласковое. Ведь мне её жалко. Мне за неё, дурочку, боязно — чтоб не обидели её, не сломали ей жизнь. Чтоб не пошло у неё с самого начала всё кувырком... Но не научен я таким словам, а потому сказал как умел:
— Эй! Ты хоть в зеркало смотришься? Размалевалась, как в фильме ужасов... И, скажи на милость, чего ты к взрослым мужикам липнешь? Чего ты с Тимохой на Волгу таскаешься?.. С огнём поиграть захотела? Доиграешься... Тимоха, он такой. Не посмотрит, что маленькая. Будешь потом плакать — да поздно.
Она — ки-ки-ки-ки! — зубы скалит:
— А тебе что? Или, может, сам хочешь?
— Тьфу ты! Дура!.. Вот дура!.. Был бы твоим отцом, знал, что делать. Таких бы тебе горячих всыпал — неделю сидеть не могла!
А она опять — ки-ки-ки-ки! Крутанулась, пошла.
Ну — дурочка! Ума меньше, чем у воробья. Идёт, вертлявая, а я на неё смотрю — и сердце сжимается. Пропадёт же! Пропадёт, Господи Боже мой!.. И вдруг меня словно ударило! А разве я раньше не видел таких, как Лизка? Не видел разве, как шляются с сигаретами? Как их тискают и на пустырь тащат? Видел. Сколько угодно. Но не думал тогда. Душа не болела. Будто так и надо. Пока не настигла меня та встреча в переулке. Пока не настигла меня она, жалость кровная, смертная. Пока не прожёг тот неотступный взгляд... А их, значит, ещё не прожег, моих братьев по судьбе, с которыми в одном котле варюсь, один асфальт топчу... Да, да! И поэтому они смотрят — и не видят, слушают — и не слышат... И я тогда, не сходя с места, — то ли клятву дал, то ли запечатал себя тяжкой печатью, попросил судьбу сжечь все мосты, чтобы не было мне ходу назад: Господи! Пускай они — пьяные, пропащие, безрассудные, но мне себя от них не оторвать. Нет, не оторвать! Если спасусь — вместе с ними, если пропаду — тоже вместе с ними!.. Господи! Может, я их завтра буду проклинать. Но это ложь, Господи! Ты мне не верь тогда… потому что без них — и меня нет... Господи, не слушай меня, если я начну проклинать! Не слушай! Пускай одно на всю жизнь: если спасёмся — вместе, пропадём — так вместе! Господи…
* * *
В то утро я проснулся часа в три и уже не мог заснуть. Так рано-рано светает в июне. Вспомнились мальчишеские годы: как в четвёртом часу вставал с удочкой на берегу, а на реке туман-молоко... Вот и теперь пошёл к Волге. Утро белое, тихое. Кругом ни души. Ветерок утренний меня обвевает. И показалось, будто волжская вода и есть вода из сказки — все раны залечивает, все горечи смывает... Легко стало, в первый раз за многие месяцы. Иду и бормочу:
— Братцы! Бело-то как, бело! Светло-то как, светло!.. Братцы! Ничего... Мы ещё поживём... Поживём ещё...
Иду и дышу. Каждая кровиночка в теле воспрянула, хочет жить, и верить, и дышать воздухом...
Вдруг слышу плач. Кто-то плачет отчаянно, громко, аж захлёбывается. Я остановился. А плач всё громче, всё ближе. Вышла из-за кустов Лиза Хавкина. Идёт, меня не видит. Шатается. Рот раскрыт, как у маленькой, тушь по всему лицу размазалась. И плачет, плачет... Я похолодел. Окликнул её:
— Лиза! Лизонька!.. Постой! Что стряслось?
Она повернулась ко мне — лицо зарёванное, рот разъехался:
— Меня Тимоха... из-на... из-на-силова-а-ал!!!
Ах, ты ж, Господи!
Враз всё почернело. Будто белый свет разом окунули в чёрное. И ничего я уже не видел — только заплаканное Лизино лицо.
— Господи! Девочка!.. Бедная ты, бедная моя!
И руки протянул — обнять, приласкать её, обиженную.
А Лиза вдруг отшатнулась, ощерилась и взвизгнула с ненавистью:
— Не трогай! Не трогай меня, козёл!.. Все вы козлы вонючие! — и, рыдая и шатаясь, пошла дальше.
Она уходила, уходила. А я стоял и смотрел... Пропала Лиза...
— Ладно! — сказал я. — Ладно, Тимоха!
* * *
Шёл к дому. И всё у меня было решено. Просто, твёрдо решилось: не жить этому гаду на земле! И пока шёл, пока доставал из чулана дедовскую двустволку, не сомневался, не думал, что со мной там будет. Только одно в голове было: как мне его подкараулить? Как мне до этой гниды добраться? Где он сейчас? И что-то подсказывало: там он, на берегу. Дрыхнет. Напакостил, девчонку испортил и завалился, гадина, спать... У нас на Волге берег ивняком порос, а в ивняке бывают такие прогалинки-поляночки. И на одну из этих поляночек наши мужики любят ходить: костерок развести, шашлычок пожарить, выпить. Нет шашлыка — не беда, можно другим закусить. А можно и не закусывать... На эту поляночку Тимоха часто таскался. Сюда он, видать, и Лизу приводил... Теперь что-то подсказывало: должен быть там.
Так и оказалось. Я ещё издалека услышал его храп. Храпел Тимоха вволю и всласть. Сначала я старался ступать тихо, подкрадывался, потом бросил — всё равно не прос-нётся.
И не проснулся. Я уже рядом был, стоял над ним — а он храпел себе. Я огляделся... Кострище чернело, в золе валялись обгоревшие железки. Приспособлено было тут что-то вроде лавки — два больших камня, а на них положена доска. Кругом — всё замусорено безбожно... Я присел на скамью и стал глядеть на спящего Тимоху. Зачем? Сам не знаю. Не мог же я убить сонного... Смотрел я на его лицо и старался что-то понять... Может, тайну какую разгадать... И ещё потому не мог убить его сонного: хотел непременно, чтоб он понял — за что! Чтоб он посмотрел в мои глаза и затрясся мелкой дрожью... Ведь всю жизнь, гад, делал пакости и думал, что с рук сойдёт. Нет, не сойдёт!
Так я сидел, держал ружье на коленях, а Тимоха спал. И лежал он, и похрапывал себе, в общем, спал как младенец. И вдруг — проснулся. Вскинулся, будто его подбросило. Сел. И на меня уставился... То ли от моего взгляда проснулся, то ли — смерть свою почуял, но только сразу всё понял. Потому что побелел. Увидел меня — и побелел. Будто уже мёртвый. Сидит, белый, и глаз с меня не сводит. И молчит.
Я тоже помолчал. А потом сказал:
— Ну вот, — говорю, — пришёл конец твоей поганой жизни. Не будешь ты, Тимофей, больше землю пачкать... Короче... молись, если умеешь!
Он задохнулся. Руками о землю опёрся, встал с трудом. Ко мне потянулся, губы трясутся:
— Виталька, Виталь... ты чего?
— Стой где стоишь! Сейчас я тебя прикончу... Или, думаешь, пожалею?.. Ты ведь не пожалел. Нет, не пожалел... Господи! Девчонка глупая... без отца растёт... дочкой тебе
могла быть! Нет, не пожалел!.. Так не жди же, гад, пощады! Нет тебе места на этой земле!
И поднял ружье.
Затрясся Тимоха. Завопил перекошенным ртом:
— Виталька! Не трогал я её! Пальцем не тронул! Клянусь!.. Нашёл кого слушать — сучку малолетнюю... Курва, шалашовка она...
— Будь человек, Тимоха! — сказал я. — Хоть перед смертью будь человек... а не поганое черт-те что!
Тимоха рухнул наземь и пополз было ко мне на четвереньках. Потом застыл. И так, на четвереньках, снизу вверх глядел на меня. И улыбался. Кривая улыбка застыла у него на губах... Я вдруг понял — это он от ужаса улыбался.
Палец у меня был на курке. Нажать только — и навеки стереть этого гада с земли... Но тоска сгребла душу... Палец у меня будто закаменел. И весь я закаменел…
Я положил ружье на колени. Достал из кармана сигареты. Уже три месяца не курил, но сигареты таскал в кармане — легче так-то, знать, что сигареты тут... Они у меня в труху превращались, я их новыми заменял... А теперь вот достал, закурил...
Курил я, ружьё лежало на коленях... А Тимоха не то что бежать — не шевельнулся. Стоял так же на четвереньках, с тою же улыбкой... будто уже труп.
А тоска смертная всё давила душу, такая тоска — воздуха не было, и не было света... Руки у меня опустились, ружье легло у ног.
— Убирайся, — сказал я Тимохе, не глядя на него.
Он не двинулся.
— Не понял? Проваливай!
Тимоха дёрнулся. В глазах появилось что-то живое. Секунды три смотрел он на меня, будто не веря. Потом вскочил и, оглядываясь, отбежал на несколько шагов. И, пятясь и не сводя с меня глаз, нырнул в кусты... Я опустил лоб в ладони... Вдруг сзади зашуршало, и появился Тимоха... Лицо ещё было белое, но уже оправился от испуга. Смотрел каким-то странным, настороженно-любопытным взглядом.
Я поднял голову.
— Чего тебе?
— Слышь... а чо ты меня не грохнул?
Опять тоска навалилась на сердце, и руки повисли вдоль колен. Сказал, чувствуя такое бессилие, будто камни языком ворочал:
— Ну, убил бы я тебя, и что? Одним русским мужиком стало бы меньше... И так вымираем...
Горло захлестнуло. Я замотал головой:
— А-а!.. Тоска-то, тоска какая!.. Господи! Ну, чего ты торчишь, душу тянешь? Проваливай! А то передумаю!
Тимоха молчал и смотрел на меня блестящим, непонятным взглядом.
— Ну, ладно, Виталик, — сказал наконец, странно блеснув глазами. — Я тебе этого не забуду, — и скользнул в кусты.
Что это? Угроза? Что он не забудет? Что хотел его пристрелить? Или что всё-таки не убил?
* * *
Лизы несколько дней не видно было во дворе, а потом опять показалась. Жизнь, как автобус, переехала эту девчонку да и покатила себе дальше. И ничего не изменилось. Опять Лиза слоняется по двору и просит у мужиков то сигарету, то зажигалку. И на Волгу ходит — не с Тимохой уже, а с Андрюхой Коноваловым. Только, когда встретит меня, опускает глаза. Видно, вспоминает, как встретилась мне в то утро, как шла, шатаясь, с Волги и ревела отчаянно и горько... Но я боюсь, что скоро она не будет опускать глаза... Скоро, наверное, всё станет трын-трава.
А Тимохе, тому и так всё трын-трава. Я к нему сначала приглядывался, всё хотел понять, не жалко ли ему Лизу? Нет, живёт как ни в чём не бывало. Только на меня смотрит как-то странно. Иногда ловлю на себе его взгляд, а в глазах — непонятный блеск. Как тогда на берегу. Будто что-то он понять хочет. Уставится так, потом встрепенётся, встряхнётся — и опять прежний Тимоха, всё с него как с гуся вода. Так и живём... Одно утешение — сын, Вадик, перестал меня дичиться. Теплее стал. Нежностей по-прежнему не признает: если протяну руку его погладить — дёргает головой. Такой вот серьёзный парень. Восемь лет всего, а закваска суровая, не особо разговорчивый. Сядет рядом и молчит. Я тоже молчу. Не знаю ещё, о чём с ним разговаривать. Вроде бы я, отец, должен его учить уму-разуму, а никогда этим делом не занимался. Ему, я вижу, рядом побыть хочется. А мне от этого такая радость — слёзы наворачиваются...
Сегодня Вадик насупился и вдруг сказал:
— Папа, а Ирка-то Хавкина, Лизина мать, как последняя шлюха стала. Сегодня с двумя мужиками шла, пьяная. Смотреть противно...
Я молчу. Мне горько, что мой Вадик в восемь лет эти вещи понимает. Но что делать, у нас во дворе дети рано начинают всё понимать. А Вадик продолжает хмуро:
— И вообще у нас во дворе сплошные алкаши. Бабы ещё хуже мужиков пьют... — и крепко закончил: — Глаза бы не глядели!
Во мне всё щемит от странного чувства. Жизнь-то, жизнь вокруг какая! Мне тяжело до смерти всё это видеть и понимать — а пацанёнку каково?! Жалко. Укрыть бы его от всего этого, спрятать — а как, где? Не построишь ведь стену. Да и нельзя. Нельзя!.. Я из него не иностранца хочу сделать, хочу, чтобы душой и кровью был — отсюда. Что всем — то и ему... Да, сынок. Что всем, то и нам. Отрекаться, отгораживаться — нельзя, сынок... Я, сынок, хочу, чтоб у тебя кожа была тонкая, чтоб всё через себя пропускала. Любят повторять: не принимай близко к сердцу... Нет, принимай близко, сынок! Близко! Принимай в самое сердце!.. И костром вспыхивает надежда: ведь он же всё понимает, а потому, может, я ему смогу передать своё ГЛАВНОЕ. То, что томит меня день и ночь.
— Верно, сынок. Тяжело смотреть. Но — приходится. Всё равно ведь мы — один народ. Всё равно ведь они — наши. Хоть ты что делай — наши. Понимаешь?.. Ты ещё и не то увидишь, — говорю я и опускаю голову.
Мне приходит на ум Тимоха.
— Может, такое увидишь, белый свет не мил покажется... Но Боже тебя сохрани, слышишь, сынок, Боже тебя сохрани — отрекаться! Боже тебя сохрани, сказать: не моё, мол, дело! Мол, я не такой, я — другой, меня это не касается!.. Всех касается! Общая это наша беда, понимаешь, сынок, общая! Один народ. Все мы друг другом повязаны, все друг другом болеем... И ты это на всю жизнь запомни: все мы из одного теста сделаны, все в одном котле варимся, все одну ношу несём... А иначе мы — не народ!
Вадик молчит. Взгляд прямой и насупленный. Я гляжу с тревогой, почти со страхом: началась ли там у него внутри какая-то работа? Поймёт ли?.. Должен понять, ведь он же МОЙ сын. Ну и что, что ему восемь лет, такие вещи не умом понимают — их кожей вбирают. Мой взгляд, мой голос, дума моя неотступная — должны ему передаться... Я с ним об этом буду опять говорить. Не скоро, такие вещи часто не говорят. Но, даст Бог, придёт время, и опять буду говорить...
Были в церкви. Вадик долго смотрел на икону Божией Матери, ту самую, возле которой я когда-то упал и завыл.
— Папа, гляди, как смотрит.
— Да. Смотрит.
— Что ж она так смотрит?
— Так вот видишь, сына своего отдаёт. Вот он, возьмите, сын мой! А люди ведь его распнут, и она это знает.
Вадик помолчал.
— Боится?
Я посмотрел на икону.
— Да нет. Жалеет.
— Кого?
— Нас. Видишь, как смотрит, будто говорит: что же вы с собой делаете?! Мы её сына распяли, а она нас жалеет.
Подошли к отцу Сергию под благословение. Он опять весь был — блеск, мощь и внушительность. И со своими литыми плечами и с золотым крестом на груди похож был на какого-то церковного генерала при орденах. Они с моим Вадимом сразу молчаливо признали и одобрили друг друга.
Потом опять постояли у иконы. А в притворе один старичок, Семён Семёныч Агапкин, церковный староста, рассказал, что икона Богородицы — шестнадцатого века, что её подарили жители деревни Балабухино, нашли где-то на чердаке.
— Ага! Среди хлама... А в музее мне сказали — шестнадцатый век! Батюшки! Подумайте только! У меня руки затряслись. Так трясущимися руками и нёс от музея до церкви... Да, высокая кисть! Художник, конечно, не известен. Дело обычное. Это нынешние творцы надуваются и кричат о себе, а предки наши были не тщеславны. Не себя славили, а Бога. И, создав красоту высокую, сходили в могилу безвестными...
Он понизил голос и прошептал:
— Уже украсть пытались. Ночью... Слава богу, милицейская машина на ту пору проезжала, спугнула их...
Вадик мрачнел, мрачнел, потом сдвинул брови и отрезал:
— Охрана нужна... Военизированная... С автоматами...
Семён Семёныч посмотрел на него.
— Автоматов у нас, миленький, нету, откуда они у нас? Надеемся на Бога... Первое время после того случая батюшка Сергий по ночам ходил с ружьём... Но долго ли человек продержится? Он у нас хоть и богатырь телом и духом, а без сна тоже не может... Теперь две старушки по ночам дежурят, меняются по очереди... Обеим за семьдесят... Они, конечно, случись что, ничего не смогут, но всё-таки... На Бога надеемся, — повторил Семён Семёныч и вздохнул.
— На Бога надеяться, конечно, хорошо, — сказал я. — Но есть такая русская пословица — на Бога надейся, а сам...
Семён Семёныч развёл руками.
— А я бы таких, которые иконы воруют, — стрелял, — выпалил Вадик, стиснув зубы.
Агапкин испуганно перекрестился:
— Что ты, что ты, милый мальчик! За них молиться надо, чтобы вразумил Господь! — Он покачал головой и сказал, будто про себя, приопустив голову: — Стрелять... стрелять это просто... стрелять можно тысячами. Перестреляем всех — а потом что? И так погибаем. Потому что чужие, не жалеем друг друга...
Этот старик говорил МОЁ. Видать, мы с ним думали об ОДНОМ.
Нам пора было идти. Я попрощался.
— Главное, молитесь, чтобы вразумил Господь! — напутствовал нас на прощанье Семён Семёныч. — Всех нас. И власть, и народ... Нам это ой как надо!
— Наверно, вразумит когда-нибудь, — ответил я. — Только бы не опоздал...
* * *
И опять жизнь идёт. Ни шатко ни валко. И у нас во дворе всё так же: кто вышел из тюрьмы, кто сел, кто готовится садиться... Ирка Хавкина, Лизина мать, в больнице с циррозом печени. И уже, видно, не выкарабкается. Лиза разругалась с бабушкой и ушла жить к Борьке Утконосу... Мама дорогая, ведь он старше меня, за сорок мужику, и тоже не слышно, чтобы работал где-нибудь. Живёт тем, что пускает к себе пьянчуг, кому выпить негде. Его за это угощают. Ну и понятно, день и ночь там дым коромыслом... Там теперь Лиза, значит. Весёлые дела... А Тимоха живёт себе, поплёвывая. Ему что... Я пару раз пожалел даже, зачем я его тогда не кончил! А потом думаю: разве Тимоха во всём виноват? Эта верёвочка дальше тянется. Из такого глубока тянется эта верёвочка, что голова разламывается, как задумаешься... И вот опять сижу ночью на кухне, пытаюсь заглянуть в ту глубину, из которой она тянется. Опять сердце сверлом сверлит: что мы с собой делаем? Что за гниль, что за червь нас точит? И когда он, этот червь, завёлся-то? Сижу так, часы тикают, за окном темень. Иногда креплюсь, а иногда махну рукой, достану сигареты, выберу какую поцелей, закурю. Головой в ладонь, и опять по новой: за что нам такое?! Или мы прокляты? Или всё равно нам — что жить, что погибать? Но вот в мои мысли пролезают чьи-то другие... чужие. Кто-то нашёптывает, ехидно, со злорадством: «Что? Сидишь тут, не спишь, мучаешься? И как? Изменилось что-нибудь? Сердце себе рвёшь, голову ломаешь — как быть дальше? Будто тебя спрашивают. До сих пор не спросили и дальше не спросят... Так что — уймись. Не мучайся, спи спокойно. Живи себе. Живи, как живётся».
Кто это? Кто нашёптывает?.. Вскинул голову, в сигаретном облаке мелькнула чья-то рожа. Что-то знакомое... А, вспомнил: там, в переулке, где оказался, ошалев от тоски... в пустом доме, которого нет… там сидел за столом синебритый господин с бывалыми ухватками... Он, значит...
Смотрю за окно. Темень. Господи, хоть бы где окошко светилось! Хоть бы звёздочка! Нигде ничего. Темень... В самом деле, зачем я мучаюсь? Зачем Виталий Окатин скорбит о своём народе, если народу и невдомёк про его скорби?.. Лечь бы, уснуть. И жить, не думая ни о чём: день прожит — и ладно... Нет, лучше петля! Выйдет из этого что-нибудь или нет, не знаю. Но не думать, не мучаться — не могу!.. Жгут мои мысли огнём, жалят змеёй. Но если пробудились — не унять их. Так до смерти с ними и жить, выходит...
* * *
Нет, конечно, и радости бывают. Но только и радость теперь через горе. И всё теперь так — радость через горечь, веселье через тоску... Шёл утром на работу, спускался по лестнице, и, когда был на площадке второго этажа, распахнулась дверь, и явилась Зина Потапова... Караулила, не иначе, в глазок смотрела... Когда-то, лет пятнадцать назад, у нас с ней что-то такое намечалось, но потом расклеилось... Она красивая, Зина, красивее Нади. Пожалуй, была красивей всех знакомых девчонок. Глаза зелёные, волосы от природы кудрявые. Только что-то уж очень кошачье в ней было, себе на уме... Надя проще. Я и стал гулять с Надей. Зина до сих пор ей это простить не может. Ненавидит, не упустит сказать какую-нибудь пакость... У самой жизнь, несмотря на красоту, не сложилась. Лет семь назад родила от неизвестного отца сына, Валерку, — и сплавила матери. Теперь свободная. Мужики к ней похаживают. Крутые всё мужики ходят, денежные. Начальники. Ходят с тортом, с шампанским. Только ни один почему-то не собрался жениться... Зинка похудела, стала ещё красивей, а в глазах — злость и обида. Будто целый свет перед ней виноват.
И вот она, значит, предстала передо мной: одну руку в бок упёрла, в другой руке — сигарета. Халат на ней розовый, шёлковый, грудь чуть не вся наружу. Бровь подняла, будто говорит: ну что? Какова я?
Да красивая, Зиночка, красивая. И брови красивые. И халат замечательный, я такой только по телевизору видал, в фильмах про наших новых богатеев. Эх, Зинка, Зинка, так ты ничего и не поняла. Жалко тебя, а не объяснишь. Сама когда-нибудь поймёшь, да поздно будет.
Зина плечом повела, усмехнулась:
— Что? На работу пошёл? А знаешь, куда твоя Надечка сегодня собирается?
— Тебе чего, Зин? Спозаранку заняться нечем? Скучно, да?
Двинула плечом:
— Обо мне не беспокойся... А вот куда твоя драгоценная Надя сегодня идёт? Знаешь?
— А ты — знаешь?
— Я-то знаю!
— Ну и знай.
— А тебе — не интересно?
— Зин, мне на работу. Если есть что сказать — говори. А то я тороплюсь.
— На аборт твоя Надя идёт! На аборт! — выкрикнула со злорадством Зина.
Я дёрнулся.
— Какой аборт?
— Такой! Или не знаешь какой! К девяти часам ей, в больницу... Что, она тебе не сказала?
— Ни слова… — ответил я машинально.
В глазах у Зинки вспыхнуло торжество. Я спохватился:
— Спасибо тебе, Зинуша, что так о нас печёшься... Как-нибудь разберёмся.
Повернул и стал подниматься обратно — домой. Я бы и бегом побежал. Но удержался из-за Зины — зачем доставлять ей такое удовольствие.
Вот, значит, какое дело. Аборт. Делала ли Надя и раньше такое? Ну да, делала. Я не то чтобы знал — догадывался. Но не влезал в это, стоял в стороне. Словно меня не касалось... Надя с этим сама управляется, меня не впутывает, ну и ладно. А хорошо это или плохо, и кто я сам в таком разе — о том не думал. Теперь же стучит в голове: вот, значит, как! Вот, значит, какое дело. И перед глазами картина — стоит маленький ребёночек у двери, стучит в неё: «Да откройте же мне! Впустите!» А отец с матерью стоят с каменными лицами и смотрят в другую сторону. Не нужен. Лишний он на этом свете...
Не выдержал, побежал через три ступени, плевать на Зину. Ворвался в квартиру. Надя — в спальне. Наклонилась над кроватью, что-то укладывает в сумку, рядом прокладки, бельё, мыло...
— Ты куда собралась? — говорю. — Сударыня?! Ты чего это удумала?
Она ойкнула, сумку выронила. Смотрит, как девочка, глаза испуганные, а на щеках — мокрые дорожки. Ревела... Вот ведь, а?! Ревёт — и всё равно собирается... Я подошёл, пнул по сумке. Разлетелись по комнате прокладки, пелёнки, тапочки. Надя залопотала:
— Виталя... я к врачу, на осмотр.
— Не ври! Знаю, куда собралась. Доложили...
Она побелела. А меня злость взяла — прибил бы.
— Главное, мне — ни слова! Сама всё решила, да? А я тут кто? Сбоку припёка? Пришей кобыле хвост? А?!
Она прижала руку к щеке, завсхлипывала:
— Виталя... так ведь жизнь такая!
— Какая?.. Война у нас, да? В землянках живём, лебеду едим?
Надя всхлипывала:
— Так ведь неизвестно, что дальше... Ты вот теперь ничего, а вдруг опять задуришь?
Мне стало стыдно и жалко Надю. И я ведь тоже виноват. Как заведено было: знал всё, а молчал, мол, моё дело — сторона, решай, дорогая, свои проблемы, мне недосуг... Вот она и решала.
Я подошёл и обнял её.
— Ладно, не плачь... А об этом, — поддел ногой сумку, — и думать забудь. Понятно?!
— Виталя! Так ведь двое уже!
— Ничего. Где двое, там и трое. Что у нас, миски борща не найдётся? Куска хлеба?
— А одеть?
— Ничего, оденем... И донашивать будет. Подумаешь, у моего дедушки шестеро было. Летом босиком бегали… Все выросли.
На меня нахлынули злость и горечь:
— Бьём себя в грудь — мы, мол, народ добрый! Мы, мол, некорыстные! А где ж мы добрые? Где некорыстные? Выходит, что мы — самые корыстные и есть! Самые расчётливые!
Надя прижималась ко мне, всхлипывала уже тише:
— Я ведь хотела оставить, хотела! А надо мной стали смеяться.
— Кто?
— Петровна с первого подъезда долбила: «Ты чего, девка, сдурела — третьего рожать!» И Зина Потапова: «Беги, говорит, скорее к врачу, а то поздно будет!»
— Зинка? Вот змея! Она же мне и рассказала... Ненавистницы! Им жизнь ненавистна... Плевать на них. А мы родим. Надо будет — пятерых родим.
— Уж пятерых!..
— А что? Мы ещё не старые... Как назовём? Давай, если мальчик, назовём Коля...
Надя спрятала голову у меня на груди, как в молодости:
— Девочка будет.
— Ну и ладно. Девочка значит девочка. Хорошо.
— Страшно теперь за девчонок-то. Смотри, что творится... Вон Лиза Хавкина, жуть берёт.
— За парней тоже страшно. Что на иглу посадят или ножом пырнут. Так, за здорово живёшь... И что? А рожать всё равно надо. А то проснёмся завтра — а у нас не Россия, а Китай.
* * *
Прошло несколько месяцев. Надя вышла в декрет. Помолодела. Тихая такая стала, радостная... А у меня радости нет. Есть, но горькая. Радость сквозь горечь... Хоть я и сказал Надюше, дескать, теперь не война — а живём, как на войне... Родили двоих, скоро будет третий. А какая их жизнь ждёт, об этом лучше не думать... Но мы все — солдаты. И надо держаться до последнего... Теперь каждый день как битва. И я бьюсь... А ночью прихожу на кухню, сажусь — и ко мне приходит синебритый плотный господин. Совсем обнаглел. Ухмыляется. Показывает картинки... Одна картинка: Лиза Хавкина у Борьки Утконоса, он её «сдаёт» своим гостям, пускает по рукам... Вот Лиза родила ребёнка, Борька бьёт её, орёт: «Убирай своего щенка, сука! Куда хочешь девай! Или сама проваливай!» Лиза с ребёнком выходит... А через два дня на помойке дворник находит картонную коробку с мёртвым младенцем... Синебритый ухмыляется: «Что, всё мучаешься? Всё жалеешь? Кого? Этих скотов?» Тычет пальцем: «Смотри!» На полу безмолвно содрогается груда
кровавых обрезков.
— Узнаёшь? Это — твои дети... Это вы на пару со своей Надей сделали... Она по кабинетам бегала, а ты делал вид, что тебя не касается. Так что ты и сам по уши в грязи!
Я глотаю табачный дым, затыкаю уши, отворачиваюсь от синебритого и смотрю в окно. Жду, когда рассветёт.
* * *
К отцу Сергию хожу иногда. Он меня благословляет.
— Ну что? — говорит он, приглядываясь ко мне, и хлопает по плечу. — Уныние — грех, человече! Забыл, где мы живём? У нас — Русь. Здесь во все века живут не благодаря, а — вопреки... Так что, держись! Держись, раб Божий!
— Есть держаться.
— Так-то.
Вечером меня тянет от людей подальше. Иногда ухожу к Волге, где ивняк погуще. А иногда забираюсь к сарайкам... Как заплаты эти сарайки, стоят криво-косо. Хламу накидано: тут — дырявая кастрюля, там — платформа от детской коляски, здесь — куча стружек... Неряшество, запустение. А меня почему-то сюда тянет. Привалюсь к какой-нибудь сарайке и так сижу до ночи. Сижу, смотрю... Смести бы эти сарайки. Зачем они стоят, нелепые? Наполовину сгнили, покривились, выломаны, выпотрошены. Тьфу, нечисть! Убрать всю дрянь и разбить здесь, скажем, парк. Газон, шёлковая травка-муравка, прямые стволы, крашеные скамеечки. Красота!.. Но сердце вдруг сожмётся, будто мышонок куснул. Жалко! Жалко сараек: ещё мальчишкой здесь прятался. Вросли они мне в сердце, так же как коробка-хрущёвка... Парки у нас есть. А сюда хорошо забиться, спрятаться от людей подальше, привалиться спиной к стене, смотреть на небо, на куст бурьяна и думать — почему так грустно на Руси?! Почему так всё и катится у нас через пень-колоду?
Зашуршали кусты. Кто-то подходил к моей сарайке — с другой стороны.
— Падай сюда... Здесь спокойно поговорим. Ни одна сволочь не услышит, — сказал кто-то почти рядом. И завозились, садясь на траву, — за углом сарайки, в двух шагах от меня. И я понял, что услышу сейчас разговор не для чужих ушей. И затих, затаился — не потому, что тянуло чужой секретный разговор подслушать, а потому, что ничего другого не придумал.
— Ну что, Геннадий? — заговорил кто-то рядом, и я узнал густоватый голос Феди-сибиряка. — Зачем позвал? Какие секреты? Выкладывай!
— Счас скажу...
А это, вроде, Генка Чириков. Года два назад вышел из тюрьмы, мелькает, мотается здесь и там...
— Ну, говори, — поторопил Федя.
— Да сейчас, мать твою... Дай с мыслями собраться... Вот, значит, мужики, пропадаем, мать твою! Пропадаем конкретно... Кругом толстые хари... Ходят туда-сюда, катаются на крутых тачках. Нахапали, твою мать! А мы лохаемся за копейки! Вот ты, Фёдор, сколько получаешь на заводе?
— Я тебе что, отчёт давать буду? — отбрил Фёдор. — Ты что, из налоговой?
— Да не говори, мать твою... Я и так знаю. Колотишься за копейки. Хоть башку себе расшиби, не заработаешь столько, сколько эти ряхи за три дня сшибают... В египты ездят... Детей в институты определили.
— Дальше чего? — это Фёдор.
— А дальше вот что... они живут — а мы пропадаем. Они живут, а нам — хрен! Гнить до конца жизни. Или лопатой ворочать, или у станка, за копейки. Всё! Больше ни хрена не светит! А почему, спрашивается? Почему они нахапали — мы нет. Они успели — мы остались лохами. Так теперь лохами и помирать? А почему и нам по египтам не шляться? Почему и нам детей в институт не определить? Рожей не вышли?.. Вот ты, Фёдор! Вот ты, твою мать, не хотел, чтоб твои дети в институты ходили?
— Ты к моим детям не лезь. О своих думай.
— Так я и думаю... И о детях думаю, и сам хочу пожить... Чо я видел? Чо я видел, мать твою, за тридцать семь лет?!
И голос Феди, сурово:
— Ты нас зачем позвал? На жизнь плакаться?
— Не на жизнь, а сказать вам, если вы мужики, а не слякоть, как можно заработать...
Федя набычился:
— Смотря как заработать.
Тут подал голос Тимоха. И он здесь!
— Федь, тебе что, деньги не нужны? А мне вот нужны...
— Деньги всем нужны.
Тимоха огрызнулся:
— Ну, и отвянь тогда! Не мешай говорить человеку... Давай, Ген!
— Значит, так. Знаете церковь... как из переулка выходить, Благовещенья, что ли... Один черт, крыша голубая...
— Знаем.
— Вот... Там есть икона. Старая... Чуть ли не полтыщи лет... Они, такие, ценятся. Она очень нужна одному человеку... Конкретно, если поможем, в накладе не останемся... Обещал он...
Генка назвал сумму, и я, даже не видя, почувствовал, как у мужиков перехватило в груди. Наступила тишина. Потом я услышал ещё один голос:
— Он чо, дурак? Такие деньги за старье давать?
Евгеша Красин. Так себе мужичок, ни рыба ни мясо. В общем-то, безобидный.
— Сам ты дурак, твою мать! Ни хрена не понимаешь, так молчи... Он её потом втридорога продаст кому надо... Какому-нибудь американцу. Американцы за это бешеные деньги дают... Нам-то что, куда он её денет? Хоть в печку кинет. Лишь бы деньги заплатил... Короче вот, поделим на пятерых. На первое время хватит... Потом ещё что-нибудь присмотрим.
Послышался шум, будто кто-то вставал. Раздался голос Фёдора:
— Я от такого сразу отказываюсь. Наперёд говорю. Это — подлость.
Ехидный, пакостный, гнилой голос вмешался:
— А чего?.. Сильно набожный, что ли?
Тимоха! Ах, зря всё-таки я тебя не кончил, Тимоха!
— Нет, не набожный.
— А чего тогда? — это Генка.
— Сам же говоришь, что иконе этой пятьсот лет. Пятьсот лет её люди хранили, берегли. А теперь американцу продать? Ты и мать родную продашь тоже?
И я услышал, как Фёдор зашагал прочь. Вдогонку ему полетел голос Генки:
— Смотри, Федюня! Смотри! Не хочешь — не надо, мы не заставляем. Но если настучишь, знаешь, что бывает!
— Сроду не стучал! — бросил Фёдор, не останавливаясь.
Шаги его затихли.
— Твою мать! — огорчился Генка. — Баба! Ладно, обойдёмся... Там ночью никто не стережёт, одна старуха только, ей в обед сто лет... Значит, мужики, договариваемся так: завтра в это же время собираемся здесь.
Генка после ухода Фёдора осмелел, взял силу, командовал жёстко, деловито.
— У кого кишка тонка, пусть отказывается сразу... Ну?
— Я — пойду, — донесся бесстыжий голос Тимохи. — Это — по мне. Это не вёдра с цементом таскать...
— Я тоже пойду. Как все, так и я... — испуганно, это Евгеша Красин.
— Кто как хочет, а я пойду... Что я, лох, что ли, на толстых ишачить! Пусть ишачит кому нравится... — это Серёжка Пустырёв. Ему лет девятнадцать, что ли... Генка, вот гад, хоть бы мальчишку пощадил!
— Молодец! Мужик! — послышался шлепок, видно, Генка хлопнул пацана по плечу.
— И напоследок. Если кто продаст... Если кто из вас пикнет...
Тут Генка замолк, и мне стало холодно. И опять, не видя, я почувствовал, что и мужикам за стеной стало не по себе. Про Генку ходили слухи, что он подельника убил. Доказать не смогли, но...
Зазвучали торопливые, вспугнутые голоса мужиков:
— Ты что, Ген...
— Ген, да ты что...
— Ладно... Я вам помочь хочу. Чтоб не сгнили в нищете, чтоб белый свет увидели... Короче, завтра здесь. Как только начнёт смеркаться... А теперь — кто куда, чтоб нас вместе не видели...
Завозились, вставая. Зашуршала трава под ногами. Протрещали кусты... И стало тихо.
* * *
Ушли. А я сидел, не шевелясь. И давила меня тоска, такая тоска, как в день, когда я приговорил Тимоху. Когда целился в него из двустволки, а он, покорно ожидая смерти, смотрел на меня, будто уже мертвец. Такая тоска, не было света, и не было вздоха, только тяжело и бессильно шевелилось в душе: «Почему я? Почему именно на меня это свалилось?.. Мог бы я оказаться в любом другом месте. И не услышал бы, не узнал бы ничего... И не налегла бы мне на грудь эта тяжесть страшная. И не надо было бы решать. А теперь — ведь теперь четыре человеческих жизни в моих руках... Господи, не много ли кладёшь мне на плечи?
Что теперь? Уйти домой, и не было ничего. Ничего я не слышал, ничего не знаю... Выбросить всё из головы и жить, как жил... Не было ничего — и кранты... Нет, не получится... Забыть? Образ Божией Матери, которая жалеет и взглядом спрашивает: что же вы над собой делаете?! Перед ней я когда-то повалился и заплакал. Сколько за пять веков народу плакало перед ней, стонало, взывало и утешалось. И она теперь будет за границей, у какого-то американца, а он, хвастая перед гостями, ткнёт пальцем: это вот — из России! И в древний образ, в печальный лик воткнутся любопытные взгляды. Не молиться, не плакать, не звать с тоской и надеждой — будут её РАЗГЛЯДЫВАТЬ. Чужими, холодными глазами. Будут ГЛАЗЕТЬ на неё. И продали её — кто?! — свои, русские люди. Правнуки тех, кто столько лет берёг и плакал... Господи! Да когда же мы настоящие-то — когда за Отчизну ложимся на амбразуру или когда за чужие бумажки продаём себя с потрохами?!
Проклясть их, проклясть! Поставить на них крест: пропадайте, я вас не знаю! Ведь подлые же! Господи, прости меня, подлые! Нет, в милицию, всё рассказать... А потом? А потом... а потом — четыре русских мужика пойдут за решётку... Тимоху не жалко, и Генку тоже... Хотя как не жалко? Жалко. Всё равно ведь — наши. Они могли быть другими — а вон какими стали. И неужели эти два русских человека ни на что лучше сгодиться не могли, как только нары продавливать? А Евгеша Красин, дурень лопоухий? Серёжка Пустырёв… Он и бриться-то недавно начал?.. И так народу сколько у нас по тюрьмам — подумать страшно!..
Что же это?! Неужели правда, что на Руси все пути ведут в тюрьму? Что русская судьба — судьба острожная, русская душа — всё святое прокутившая, на себя рукой махнувшая?.. И уже понимал я, что не могу этого сделать, мужиков своих запихнуть туда же, где вот так, ни для чего, пропадают ненужно тысячи русских людей. Не могу... А тогда что? А тогда — икона, пять веков бережённая — попадёт в чужие руки. Это ведь для нас она — святыня, теплота сокровенная, это мы перед ней плачем от сердца, а там она — для любопытства, для спеси, для хвастовства... Что теперь?
Небо синеет, высокое. Далеко, высоко пробегают облака. Куст бурьяна, пригретый закатным солнцем, не шелохнётся. По листу ползёт жучок... Счастливый ты, жучок! Тебе ничего решать не надо. У вас всё просто — живёшь, как получается, и ладно. А мне как быть? Завтра сюда соберётся вся компания — Генка и трое олухов, которым он мозги задурил. Выждут, когда стемнеет — и пойдут... И тут мне показалось — вот он, выход! Они придут? Хорошо. А я их здесь буду ждать. Выйду и скажу: «Что, соколики, на дело собрались? Давайте, давайте. Там вас менты давно ждут. Я вчера тут был, всё слышал и кому надо рассказал... Давайте, идите!..» Пойдут они после этого на чёрное дело? Дураку ясно, что нет. Я обрадовался — нашёл выход. То есть, может, это и не выход, но не мог я больше ломать голову и терзать сердце.
Небо было сказочного цвета, когда я шёл домой: первые звёзды горели ярко и нежно. «Вот и горите, — сказал я им. — Сколько пакости в этом мире. Пусть хоть какая-то радость для людей».
По пути росли три березки-самосевки, с меня ростом. Я подошёл к средней: «Что, опять ребята ветку обломали? А ты расти скорее! — посоветовал я. — Вымахаешь большая — ничего тебе ребятишки не сделают!» И кольнул в сердце осколочек стекла: «Что это я, как будто прощаюсь?»
* * *
Дома Вадик собирает вещи. Завтра он едет в детский военный лагерь «Дружина», в деревню Балабухино. В лагерь ему, конечно, рано, туда берут с двенадцати, а Вадиму десять. Но батюшка Сергий постарался, по дружбе устроил. Он там — полевым священником, да и весь этот лагерь — батюшкина затея, плод его горячих хлопот. А через два года Вадим собирается в кадетский корпус.
Надя рвётся помочь Вадику собрать сумку. Он не дает:
— Сам! Сиди...
Наде через месяц рожать. Нинка крутится тут же. В маечке, черноплечая — день-деньской на улице. Вадик хочет уложить рубашку.
— А пуговица-то! — кричит Нинка, радуясь. — Пуговицы-то нету!
На рубашке оторвана пуговица. Надя идёт в спальню за пуговицей, Нинка убегает за ней, радостно топая. Вадим, строгий, укладывает вещи.
Что мне ему сказать за те пять-шесть минут, пока не вернулась Надя? Сказать такие слова, чтоб на всю жизнь — как компас... Господи, я и для себя таких слов не нашёл...
— Сынок, брось, — попросил я, — мне с тобой поговорить захотелось. Иди сюда.
Вадик кинул глазом настороженно, оторвался от сумки и подошёл.
— Вот, сынок… Бывает так: человека воспитывают изо всех сил, языкам учат, в кружки водят. А выходит — слизь и погань... А мы тебя вроде и не воспитывали. Я, сам знаешь, какой был ещё год назад. Маме некогда... Никто тебя не воспитывал... а ты понял... понял, куда двигаться. Вот и хорошо... А ещё хочу тебе сказать: думай всю жизнь! думать не уставай, сынок! Больно это и тяжело, но ты — не уставай... И — сердцем... Трудись сердцем, сынок! Не укрывай, не прячь от жизни его... держи настежь!.. И напоследок, самое кровное. Люди, с которыми живёшь... народ, из которого ты вышел... знай — ты над ним — не судья! Ты — часть его... Чужие — пусть судят. А ты — иди с ним его дорогой, неси честно свою часть... Может, кто-то тебе скажет: «Разве это народ? Такие они, сякие, плюнь ты на них, живи себе!» Ты с ним, сынок, не спорь. Не отвечай ничего. Но с этой минуты за человека его не считай. Кто бы он ни был, сколько бы дипломов на стенках у него ни висело... Вот и всё. Вот так вот, сын.
Вадик смотрел настороженно. И ещё — тревожно.
Я спохватился.
— Ты не подумай чего… Я тебе потому говорю, что ты завтра уезжаешь. В первый раз, можно сказать, отрываешься от родного гнезда.
* * *
Надя лежит рядом. Сорочка на животе кругло натянута. Головой припала ко мне на плечо и бормочет, как ручеёк, то ли для меня, то ли для себя:
— Вот и ладно теперь всё у нас... Чего нам ещё? Ты не пьёшь, дети в порядке... Скоро и Анечка у нас появится... Будет она у нас расти... Ты куда, Виталя?
— Чаю... чаю захотелось. Пойду на кухню... Ты спи.
На кухне я сижу до утра.
Утром прощаемся с Вадимом. Сам он меня не целует — не умеет целоваться. Но когда я тянусь к нему губами, не дергает головой... Я ткнулся ему в висок. Вадик замер. И несколько секунд я вдыхал родной запах сына.
В этот день я не пошел на работу. Бродил по посёлку, вышел на берег. Вспоминал. Разное вспоминал, и плохое, и хорошее. И уже ни на кого не сердился. На кого была обида — растаяла, поблекла.
День занимался как раз такой, чтоб на душе стала тишина. Ветер чуть шелестел в листьях, будто тоже припоминал. Неяркий был денёк, присмиревший, а бледно-голубое небо — кроткое, простенькое.
Ходил я, смотрел. И то, что было впереди, — было ещё моим. А то, что оставалось за спиной, оставалось другим... И косой заборчик, и лопухи у сарайки — всё останется тем, кто после меня. И тоже будет говорить их душе, наводить на какие-то мысли.
Неяркий день и кончился неприметно, без роскоши. Узкая розовая полоса недолго горела на западе, посветила, словно стесняясь, и потухла.
Вот и всё. Я вышел из своих мыслей и увидел, что стою у сарайки, где должны собраться Генка и его подельники. Пока я смотрел на мир и думал, ноги сами принесли меня сюда. Всё, Виталя. Сколько ни тяни, как ни петляй — а от судьбы не уйдёшь. Ты сам так решил...
* * *
Я выбрал себе место, чтобы было видно сарайку, и затаился. Небо начало становиться бирюзовым... Шайка, один за другим, стала собираться. Вразвалочку явился Тимоха, вынырнул из кустов Серёга Пустырёв. Как из-под земли вырос Генка — бывалый вор, притопал неуклюжий, заранее испуганный Евгеша Красин. Вот и все четверо в сборе. Я их вижу хорошо. Сидят в траве, курят. Ждут, чтоб стемнело. Стемнеет — и пойдут взламывать, красть икону.
«Ладно, пора», — подумал я, встал и вышел из своего укрытия. Было мне до них — шагов пятнадцать. И я пошагал.
«А ведь убьют!» — сказал чей-то голос рядом, негромко и неотвратимо. Я остановился. И промозглое что-то проползло по костям... Я пошёл дальше.
«Убьют!» — повторил тот же голос, крепко и убеждённо.
«Вот ещё! — ответил я, играя под дурачка, мысленно посмеиваясь, чтобы сбить с толку голос, улестить его. — С чего им меня убивать? Отмутузят, может, это да. А чтобы убивать... скажешь тоже!»
Но голос с беспощадной убеждённостью повторил: «Убьют!» И я понял, что этот голос — мой.
И я, чтобы не слышать, пошёл быстрее.
А рядом со мной, сбоку, чуть обгоняя, шёл кто-то. Старый знакомец — синебритый господин. Торопился, стараясь заглянуть мне в лицо. Немного прихрамывал. И рожа его была — ехидство пополам с угодливостью.
— Ты куда идёшь, Виталий Окатин? На встречу со смертью? А?
— Не твоё дело. Отстань.
— Сам ведь знаешь, что пришьют. Из-за кого помирать собрался? Из-за этих по-донков?
— Они не подонки...
— А кто?
— Мои соотечественники. Братья... Одного корня и рода, по одной земле ходим... Больше я ничего знать не должен... И пропасть я им не дам, слышишь, ты, морда? И отстань на веки вечные!
— Тьфу! Дубина стоеросовая! Пропадёшь ни за грош. А как жить бы мог, Виталий. Дались тебе эти пропащие.
— Уйди от меня, образина!.. А-а! Я теперь понял, кто ты! Ты во все времена одно дело делаешь. Много ты имён переменил, но дело у тебя одно — измена и братоотступничество. Но врёшь! Мне ещё десять шагов остаётся. Как-нибудь я их одолею, назад не поверну.
— А потом? А потом, знаешь, что будет, Виталий?
— Ну, что? Может, я за жизнь не держусь... Если сердце подняло слишком большой груз и надорвалось — оно стучит и дальше, но по обязанности. Отстукивает положенное, а радости нет... Всё, пять шагов осталось. Больше тебе здесь делать нечего. Пропадай. Плыви серым дымом.
И он поплыл.
А мне навстречу шагнули, настороженно-мрачно поднявшись с травы, четверо мужиков. Мы с ними вместе росли, вот на этих задворках. А теперь между нами — стена. Хочу пробиться через стену, чтоб быть нам вместе. А как пробиться? Вон лица у них застёгнутые, каменные, глаза блестят по-волчьи. Евгеша, и тот сбычился. Чуждость исходила от них. Леденила меня эта чуждость. И, может, поэтому я начал фальшиво, заиграл этаким дурачком-скоморохом:
— Что? Сидим?... Сиди-и-им. Ждём. А чего ждём? Чтоб стемнело хорошенько. Чтоб икону уворовать... Древний Божией Матери образ. Висит она там, матушка, а тут на неё кто-то зубы наточил, да? Ну, ступайте, ступайте... Там дяди в погонах уже ждут... Возьмут дружочков под белы ручки — и фюить! Ну, давайте! Ать-два!
И осёкся, язык больше не двигался. Нехорошее, стылое что-то нависло вокруг. Я смотрел на них, они — на меня, затвердев и напрягшись. И молчали. И было промозгло, стыло и горестно на душе.
Генка тихим, невидным глазу шагом шагнул — и встал рядом со мной.
— Ты чего? — он приблизил ко мне свой худой, обтянутый кожей подбородок. — Ты что сказал?
— Ничего... Идите. Икону красть. Вас там загребут. Ага, с поличным... В церкви засада. Ага. Я вчера сбегал куда следует, всё рассказал.
И понимал где-то в глубине, что фальшиво, что не так надо, по-другому. Но чуждость леденила, останавливала сердце.
Кто-то ахнул. Тимоха взвыл:
— Заложи-ил!!! Виталюха, ну га-ад!
Генка с перекошенным оскалом сгрёб меня за шиворот, тряхнул:
— Правда, что ли? Заложил?! Говори, сука!
— А я тебе про что? Вы тут вчера тары-бары-растабары, а я всё слышал. Тут, за углом, сидел. И в ту же минуту к ментам, всё им расписал... Так что давайте, идите. Вас там ждут не дождутся.
— Ну, сука! Держись!
Генкин удар пришёлся в ухо. Второй в челюсть. Потом я лежал на земле, и меня месили ногами. Кто — не разглядеть было. Все, наверное. Тимоха особенно старался...
— Мужики! Кончим его! — сказал голос Генки. — Запихнём куда-нибудь... И ничего не знаем, никакой иконы... Пусть докажут!
— Поднимите его! — велел Генка, и меня рванули за плечи.
Держали меня с двух сторон — Тимоха и Серёга. Генка встал передо мной.
— Ты знал, что за это бывает? Знал, что бывает с тем, кто языком треплет? — спро-сил он.
В руке, прижатой к бедру, блестело лезвие. И какое оно было холодное. И в глазах был такой же холод, не было в них ни крупицы тепла.
Тошно, отчаянно сдавило грудь. Вот она какая, тоска предсмертная. Это — оди-ночество. Когда рядом — человеческие глаза, но — чужие. А я был готов руки им цело-
вать, только чтоб смотрели по-другому. Пусть убьют, но только пусть смотрят по-другому... Родных глаз мне в эту минуту хотелось до животного воя, и всё бы отдал за родной взгляд.
— Ребята, ну простите, — забормотал я, озираясь. — Что вы делаете... Гена, не надо... Не меня — себя-то хоть пожалейте... Дураки! Господи, дураки...
Генка напряг челюсти и резко выдохнул сквозь зубы. В животе слева, под ребрами, взорвалось болью... И поползла красная, тошная тьма к глазам, к голове. Меня уже не держали, я сползал вниз... Крутилось чёрное и багровое перед глазами...
И из багровых кругов вдруг высунулась физиономия синебритого: «Что, Виталий? Пропал ведь. И за что? Так, ни за грош!»
«Врёшь... врёшь, образина! — отбил я с последней силой. — Отдаю жизнь за братьев... за кровных своих. Жизнь свою... за други своя. Мы все... все солдаты... не понять тебе этого никогда...»
* * *
И холодели земные уста Виталюхи, костенел язык, тело уже не содрогалось.
Вот и всё. Прими, история, Виталия Окатина. Уложи его на вечный покой, уложи среди тысяч других... Ты его имя не напишешь большими буквами, чтоб сияли на века. Напишешь — маленькими, и они сольются с другими такими же. Но, может, ты ведёшь счёт сама для себя? Есть ли у тебя такая графа — чтобы вписать человека, который жил, как трава растет, — и вдруг стал сыном Отечества? Ничего он такого не сделал, не было у него ни ума большого, ни талантов каких-то особенных, но честно маялся сердцем за свой народ?.. Если есть, ты впиши его туда... А больше сказать нечего.
* * *
Распластанное тело Виталия Окатина оттащили в порушенную развалюху, от которой торчали одни стены, втиснули под прогнивший пол и закидали битым кирпичом. И, торопясь, пошли прочь... А за ними в прозрачных сумерках тенью шла женщина с рентгеновыми глазами. Никто не оглянулся — только Тимоха оглянулся. И пошёл дальше, спотыкаясь. А метров через десять шатнулся, упал на землю и завопил:
— Мужики! Что ж мы наделали? Зачем мы Виталюху кончили?!
Трое других остановились и растерянно обступили его.
— Ты что? — рявкнул Генка. — Вставай, твою мать!.. Линять надо отсюда скорее!
Но Тимоха, держась за голову, раскачивался и выл:
— Зачем мы Виталюху убили? Что ж мы сдела-ли-и!
— Дурак! — зло бросил Генка. — Он нас ментам заложил!
— Не-ет! — стонал Тимоха. — Нет! Если б заложил — нас бы уже загребли... Нет, он нарочно так сказал... нас, дураков, спасал!.. О-о-ёй, что ж мы сделали! Что ж мы над собой делаем-то! — завыл он, катаясь по траве.
— Вставай! — зарычал Генка и пнул его ногой. — Вставай, сука! Всех угробить хочешь?!
Но Тимоха держался за голову и выл. Одной рукой размазывал слёзы по лицу, а другой стучал по груди и вопил:
— Ребята! Вот тут вот! Тут больно. Ой, как больно-то! Будто мяса кусок вырвали... Жалко! Виталюху жалко. И Лизу... Пропала ведь она! Пропала... Что ж мы делаем! Что мы все делаем?!
Молча глядел Серёга Пустырёв. Трясся весь белый Евгеша. И Генка смотрел, не зная, что делать. Выругался и сказал:
— Рехнулся.
— А может он... это... чистосердечное признание репетирует? — бросил Серёжка Пустырёв.
Генка озверел.
— Убью! — ревел он, пиная Тимоху куда попало. — Заложить решил, гадюка? К ментам лыжи навострил? Убью, тварь! Раздавлю, как клопа!
Теперь они месили его вдвоём с Серёгой.
— Вставай, тварь! Вставай... — хрипел Генка. — А то кончим. Запихнем туда же, куда Виталюху... Вставай!
Тимоха крутился у них под ногами, катался по траве, и над сарайками разносился его вопль:
— Жа-а-лко! Виталюху жалко! Всех жалко!.. Братцы! Что ж мы делаем!.. Что мы над собой де-ла-е-ем!
Вместо эпилога
Летел я длинным светлым коридором, летел неуклюже, как молодой неоперившийся аист. С непривычки, а ещё — от робости. Ведь я догадывался, куда ведёт светлый коридор... Наконец я узнаю, зачем всё было, правильно ли было?
И отворили высокие двери и поставили меня перед Ним. И я спросил, правильно ли я сделал?
— Господи! Надя на моей могиле рвала волосы и кричала: как я одна с тремя детьми?! Как? Вадик, сын, стоял с каменным лицом... А мужики всё равно попали в тюрьму... Господи, — просипел уже не голосом, нутром, — зачем всё было?
И замолчал, ожидая, что Он разгневается. Он улыбнулся ободряющей улыбкой, как мать улыбается сыну, только начинающему ходить. А я опять:
— Господи! Мне Тимоху жалко, Тимохе теперь плохо. Его бьют, а он будто не чувствует, одно вопрошает: «Что мы делаем?» Они смеются и опять бьют... Господи, для чего всё?
Снял Господь со стены серебряные гусли. И заиграл. И я увидел… Льётся песня над русской землей, то весёлая, то печальная. И Русь плачет и смеётся, русские люди пропадают — то калечат друг друга бездумно, то скидывают, дабы ближнего укрыть, последнее, исподнее... Играют Божьи струны. А среди других — одна заветная, тоненькая струнка. Какой грустный, тихий, надрывный от неё звук! И от этой струнки тянутся ниточки к сердцам иных людей. Там, где ниточка крепится к сердцу, — красная ранка. Тянет Господь за заветную струнку — ранка вздрагивает, сердце сжимается, и глаза у тех людей широко раскрываются, они смотрят вокруг, смотрят на мир, смотрят и спрашивают: «Что ж мы над собой делаем?!» Так всю жизнь и мечутся, спрашивая... И к Тимохиному сердцу тянется такая ниточка...
— Господи, так вот это — Настоящая Россия? Одни живут бездумно, а другие рвут себя вопросами, безответно… И так — навсегда? Это ли, Господи, Настоящая Россия, Вечная?
Он опустил тяжёлые веки, и на золотые брови легла печаль. А я крикнул:
— Господи, покажи мне Настоящую Россию! — И упал на свои бесплотные коле-
ни. — Сделай со мной потом что хочешь, кинь в огненные муки — но покажи мне Настоящую Россию!
Он не разгневался. Печаль в его бровях сменилась светом, и взгляд наполнился светом. Я проследил за его взглядом и увидел… стол, и на столе круглая чаша. А вокруг сидят три молодых ангела и склоняют друг перед другом головы. От молодых склонённых голов льётся лазурь. И ничего больше. Ни кабаков, ни знамён, ни пушек. Лазурь...
— Так вот она — Вечная Россия! Господи, как же… где ж она — на земле или на небе? Когда она будет? Когда придёт?
Он улыбнулся, как взрослый ребёнку. Потому что, хотя я теперь видел и знаю в разы больше, чем на земле, — но по-прежнему всё знать мне не положено. Всё знает только Он... А я?.. Неужели мне опять, горюя и радуясь, бродить по небесным полям, смотреть вниз, на мою оставленную землю, и спрашивать, спрашивать:
— Где она, Настоящая Россия, — на земле или на небе? Когда она откроется? Когда придёт?
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n290j/- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber
- Telegram






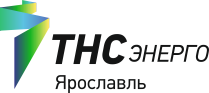



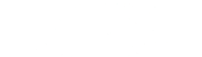
Комментарии: