Мария КРАВЦОВА. Маша Чок-Чок, или Когда ангелы трубят в трубу. Повесть
Мария КРАВЦОВА
Родилась в 1990 г. в Краснодарском крае.
В 1994 г. вместе с родителями переехала в Ярославль.
Воспитываясь в творческой семье, рано начала писать стихи и прозу. Училась в средней школе № 30 и одновременно занималась в Ярославском городском центре анимационного творчества «Перспектива», где первый диплом получила за оригинальное воплощение идеи собственного мультфильма «Спасибо тебе» из рук лауреата премии «Оскар» Александра Петрова (2004). Позже были Гран-при за мультфильм «Война миров» на Международном конкурсе по правам человека, проведённом под эгидой ООН в Москве (2005); первое место на всероссийском фестивале «Петербургский экран» в номинации «Лучший мультипликационный фильм» (2005); диплом 1-й степени на фестивале молодёжного и семейного кино «Кино-клик» за лучший литературный сценарий (2007).
Участница и дипломант литературных конкурсов: на фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» (2006) была отмечена как один из авторов коллективного поэтического сборника «Не снег, а звёзды» (ИД «Первое сентября», Москва); призёр областных литературно-художественных конкурсов за стихи, пьесы и эссе (2005, 2006). Стипендиат губернатора Ярославской области (2006).
Первой публикацией стала сказка 10-летнего автора в газете «Золотое кольцо» (2001). Опубликованы «Четыре пьесы» в альманахе «Открытое плавание» (Москва, 2006) и рецензии в православном журнале «Фома» (2011).
Студентка Литературного института им. А. М. Горького.
Мы представляем читателям повесть молодого автора, в которой мир предстаёт глазами пятилетнего ребёнка, растущего в творческой семье, мир непростой, где детские фантазии соединяются с христианскими догматами и парадоксальными реалиями России второй половины 1990-х гг.
© М. К. Крацова, 2012
Маша Чок-Чок, или Когда ангелы трубят в трубу
Повесть
Поэты страшные люди. Если люди вообще. Они шипят, как переваренный кофе, когда ты выбегаешь к ним на кухню после двух ночи, и никогда не извиняются, если в лампаде оказывается недостаточно масла. Им не стыдно прикидываться дворниками и прихожанами провинциальных храмов, даже если бенгальский огонь глаз выдаёт их с головой и оптимальная (как они полагают) толщина кожи не помогает скрыться от преследователей ни им самим, ни их младенцам, рождённым в свете яблонь и ладоней июльской ночью в гамаке.
Ладно-ладно, согласна, насчёт гамака это уже явный перебор. Но, по правде сказать, настоящие образы рождаются нередко и в менее подходящих условиях, а я всю жизнь считала себя лишь образом, персонажем, пусть эпизодическим, упоминаемым один-единственный раз на странице 284, но только самой гениальной книги, где ангелы трубят в свою трубу. Конечно, как обычно и бывает, я заблудилась и нарисовалась в итоге в главной роли, но всего лишь своей книги, начатой в шутку теми странными людьми, которых я так и не смогла понять.
— Папа, а правда, что гений и злодейство — две вещи несовместные?
— Что ты имеешь в виду? Гениальность сама по себе зло. Ты вообще знаешь, кто такой гений?
— Нет. Не очень.
— А что тогда плачешь?
Конечно, кое-что я знала: у императоров были гении, им приносили в жертву белых голубей, а белокурый экранный Моцарт был гением Сальери, принесённым в жертву самому себе за то, что казался хрустальным человечком, которого грех не разбить.
— ...но ведь их тогда совсем не останется!
Так и не осталось почти.
Не удивительно, что я старалась не появляться без особой нужды в этой холодной комнате с телевизором: там вечно были либо новости со страшной музыкой, либо канал более культурный, всегда готовый засвидетельствовать, что все ангелы давно погибли и никто не ждёт их воскресения. Но бабушка новости любила и охотно делилась ими. Когда же мы переехали в отдельную квартиру, прислала нам телевизор, чтобы мы, не дай бог, не забыли, где живём.
Я пряталась от телевизора в кладовке, в надежде, что рано или поздно на одной из полок увижу Нарния и тогда бесконечный тарарам соседней комнаты растает в солнечном дыхании Аслана. Иногда так и происходило, правда, далеко не там и не тогда, где и когда мне того
хотелось. Например, однажды в лампочке, которая светила в кладовке, я увидела толпу людей: девушки в платках, ругачие и круглолицые, мужчины, различимые в меньшей степени, но такие же счастливые и бессмысленные; стариков среди них не было и детей, скорее всего, тоже, кроме одной четырёхлетней девочки, любившей жить на новогодней ёлке среди шаров — она сама была похожа на шарик. Конечно, это мало походило на Нарнию, но лучше лампочка, чем ничего, так что приходилось покорно пялиться в стекло, в ожидании, когда оно соизволит треснуть и впустить меня.
Я любовалась бесконечно долго, а Шарик любовалась мной. Другие насельники лампы работали, ругались, веселились, строили домики вокруг ёлки и снова их ломали, суетились, копили кульки с сахаром, а Шарик сидела и смотрела на меня с колючей вершины. Шарик росла, меняла цвет волос и сарафана, хлопала глазами, пока в лампочке не возникло чернильное глазастое облако и не заволокло незаметно для жителей всё их пространство — внутри и снаружи, причмокивая веками по стеклу от удовольствия. Наконец, вылизав всё, оно молодецки свистнуло, чтобы уж наверняка не оставить никого в живых, а потом, покряхтывая, как мне показалось, начало вылезать мне навстречу.
— Ааа! Уструись!
— Это всё электрификация! — заявила Шарик из-под самой нарнийской полки. — Не может оно уструиться, водички в лампочке не хватает.
Позже я старалась не вспоминать это моё пугающее знакомство, тем более что бывали в жизни вещи и пострашнее. Например, когда тебя учат молиться:
— … и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
— «Отлукавого» — это Бог? (Заметив возмущенье мамы.) Ну, или что-то в этом роде...
...тоже похожее на восковую свечу из моих кошмаров, ради которой тушат весь остальной свет, чтобы потом легче было оплавить наши глаза и придать им обречённо-благочестивую форму, как на иконах. Мама часто тушила свет и зажигала свечи, а я боялась этой темноты намного больше, чем кромешной, потому что уж лучше ничего не видеть вовсе, чем видеть всё, но едва различая цвета. А мне пытались объяснить, что до Христа всё время так и было, что люди жили, как на эсфоделовом лугу, не видя света и не чувствуя его, даже святые. Для них нередко я делала из фольги фонарики и развешивала по всему дому — этот Иезекилю, этот Давиду, этот Илии, а этот Озии, он неудачно получился, — чтоб где-то в полумифологическом пространстве им стало чуть светлее ждать Мессию.
— Подумай, Маша, если бы все эти годы во всей вселенной жил только один человек, и этим человеком была бы ты, Он всё равно спустился бы на Землю и отдал бы свою жизнь. За одну тебя.
— Зачем?!
Мне так живо представилось, что я, зародыш с вишнёвой плёночкой вместо глаз, как на раздаваемых в церкви листовках против абортов, лежу одна на чуть подтаявшем снегу, расту, как глиняный муляж из сказки, вбирая постепенно всё в себя и зная, что за это время в мире должны сменяться эпохи; что я ещё не научилась ходить, когда Моисей должен был вывести евреев из Египта, и грызла ногти, пока Даниил разгадывал огненные письмена на стене у вавилонян; и даже звезду на востоке я не заметила, потому что некому было мне рассказать о ней.
— Как зачем? Чтобы спасти тебя!
— А, да... спасти…
Чтобы не быть одной. Чтобы всё было, как быть должно. И не было ничего лишнего — такого, как я, глиняная. Потому что это грех. Грех — то, что вне поэзии, как чёрное зерно в гречневой каше, о которое можно сломать зуб, ворованный тик-так, который, хотя и портит всем взрослым настроение, всё же пахнет мятой. Наконец, грех это упущение шансов.
— Мама, а грех сидеть на горшке попой к иконам?
— Ты что, издеваешься?
— А если я завтра умру, то меня так и запомнят, попой на горшке?
— Кто запомнит?
— Ну… Бог…
— Грех — это глупость, Маша, — как всегда случайно, встрял папа, — серость и глупость. А всё остальное уже не так страшно.
Потом папа взял с полки «Божественную комедию» и стал читать вслух. Я глянула на её объём и чуть не разрыдалась — ну и кто меня за язык тянул?! Правда, к моему величайшему удивлению, он не стал читать в тот вечер всю книгу, а ограничился самым началом, где говорилось про тех, кто оказался не достоин ада, поэтому так и остался в темноте. Неужели он это и про мой горшок?! Папа, обещаю, что никогда не буду нормальной!
Хотя едва ли мне это светило уже тогда. Ведь, как и подобает поэтическому ребёнку, я нередко вспоминала, что, например, я — вовсе не я, а мои потерянные санки (за которые меня потом ругали), и потому моё призванье — всё время ехать под вечерним небом на лезвиях, приделанных к спине, пока есть на моём конце белая верёвочка, за которую меня будет тащить мальчик в потёртых серо-голубых сапожках, которые я только и запомнила из всего его облика, потому что только их круглые носики топали на уровне моих глаз, пока меня тянули от дома — к горке, и от горки — к небу, от неба — к пробужденью. Да, когда я просыпалась, я, конечно, забывала, что на самом деле я — санки и их забрал с собой тот малыш. Правда, один раз он не повёз меня на небо, а катался по кругу и катал кого-то во мне. Но мне вообще-то было всё равно — я любовалась на фейерверк, который там взрывали не в честь меня, а в честь Нового года, и радовалась жизни, слушая как колыбельную, хруст снега под нелепыми сапожками, пока внезапно он не выпустил верёвочку из рук и я не ударилась о стенку носом, не перевернулась, не отвела глаз от фейерверка и не увидела через свои розовые прутья тяжёлую, как небо в облаках, трагическую и лысеющую маску с огромным ртом из ниток мулине, наброшенную сверху, как одежда.
В то утро меня первый раз пришлось будить, до этого я скатывалась с горки и просыпалась преспокойненько сама. Но это был мой день рождения, и что-то действительно должно было произойти. И произошло.
Мои родители вместо меня нашли другую! Правда, к их чести стоит сказать, что идея принадлежала не им. Это моя крёстная: пока я спала, явилась с самым праздничным видом и поставила на стол пластмассовую куклу с золотистыми косичками и в красном сарафане (нелепую пародию на Шарик!) и убежала тотчас по своим делам.
— Мама, это кто?
— Смотри, какая прелесть! Это твоя дочка.
— Мама, я не рожала её. Зачем она нужна?
— Чтобы с ней играть. Смотри, какие у неё ручки, ножки, косички и сарафанчик…
Я быстро сообразила, что я ей не соперница, но окна были закрыты на шпингалеты, так что выпрыгнуть мне всё равно бы не удалось. Оставалось только плакать:
— Ну и что?! Мама, она не живая!
— Да тебе не угодишь! — рассмеялся папа и подвёл меня к зеркалу. — Смотри, какая ты некрасивая, когда плачешь.
Конечно, моя скривлённая физиономия никогда не сравнится с её сияющей мордашкой — … какая разница! Играть надо со мной, а вы меня совсем не любите!
— Ириш, а у неё нет температуры?
Температуры у меня не было, и мама это знала.
— Маш, если не прекратишь, то не пойдём в зоопарк.
Я не хотела в зоопарк. Я не хотела, чтобы мне вообще исполнилось четыре года. Я хотела только, чтобы меня любили, но они оба сердились, и мне пришлось смириться. Убедившись в моей покорности, мама сменила гнев на милость, вручила мне фломастеры с раскрасками и даже позволила не брать эту сарафанную особу с собой.
В зоопарке меня больше всего интересовали люди. Стоило родителям отвернуться, как я ловила первого попавшегося за ногу и принималась читать на память пушкинского «Анчара».
— Ой, извините! Маш, оставь тётю в покое, смотри, какие птички.
— Да...
Опять не дали почитать стихи. Мой день рождения уже напоминал аналогичный праздник ослика Иа, но тут я обнаружила, что невдалеке стоит ларёк с пепси, а перед ним обретается компания подростков, с виду значительно менее строгих, чем большинство окружающих. Я подлетела к ним и, не отдышавшись, глотая слоги и целые слова, залопотала: «В пустыне мрачной и скупой, на почве, зноем заколенной…», параллельно пытаясь объяснить, что у меня сегодня день рожденья. Немного обалдев, ребята накупили чупа-чупсов и разных жевательных резинок и засунули их мне в карманы, в капюшон, за шиворот, несмотря на отчаянный протест моей мамы, и даже вручили мне банку пепси, что было уже выше предела моих мечтаний.
— Ну вот это, я понимаю, день рождения! А то — бедная птица босыми ногами стоит в холодной воде, а вы мне кричите: «Экзотика!»
Для полного счастья я выползла той ночью из постели, зашла на кухню, сняла куклу со стола и бросила её в ведро к картофельным очисткам. Мама, правда, на обратном пути меня поймала, но ничего не заметила, только папу отчитала: «Я её усыпляла, усыпляла, а ты за две минуты разбудил! Сделай музыку потише…» Нет-нет, я не Сальери: кукла с самого начала была мертва, правда! И хотя музыку сделали настолько тихой, что сами вряд ли разбирали, о чём она, но там, у этих вечных детских сапожек, её скрежет под моими полозьями стачивал ушные перепонки в кровь: «O, babe, don't leave me now!» Да, малыш, не бросай меня, по крайней мере, не на песок, не на тот песок, которым засыпают.
— Засыпай, Машенька, засыпай, уже час ночи!
Изящные женские пальцы, гипотетически обязанные быть пальцами моей мамы, засыпают мою подушку и меня за компанию песком из пластикового стакана. Не оставляй меня, а то он загорится, ведь я ещё не научилась просыпаться! Да, так и не научилась до сих пор.
* * *
— Не гори, не гори, моя звезда, ни для меня, ни для других маразмов!
— И не дождёшься — рукописцы не горят!
Я не боялась его, хоть игральный кубик и был значительно меня крупнее, и глаз у него было, без сомненья, больше, оплавленных свечой, на каждой грани — по шесть; но это был маразм самый обычный, из тех, что сводят с ума бабушек людей, едва ли он смог бы хоть пальцем тронуть поэтов или их детей, поэтому он злился. Бабушки, вслед за которыми обычно он и вкатывался в мою жизнь, тоже злились, но почему-то только на меня (его они в упор не замечали). Особенно тётя Нина, бабушка папы или, может быть, её сестра; она была старшей из всех, кого я знала.
— Ира, ты сама говорила, что твой отец был шизофреником!
— Не шизофреником, а болел энцефалитом и под машину из-за этого попал!
— И всё равно, могла бы о ребёнке подумать, она же станет социальным инвалидом, ты знаешь, чем она сейчас занята? Ловит мокриц под поленьями!
Это была правда. Я прослоилась меж берёзовых поленьев и блаженно стекала по лучику солнца, мурлыкая от ужаса уже не только перед поэзией, но и перед мятной жвачкой с вкладышем в кармане, по которой и отмеряли этот берёзовый луч каждому в свою меру безрассудства, — кому девяносто карат, кому шестьдесят, а кому и тридцать. И только слизню — горсть песка в ракушку, и хватит с вас, катитесь в свою лужу! Это был аквапарк такой — в его уплату надо было отдать все свои рожки, как настоящие, так и потенциально возможные. Слизни всегда готовы многим жертвовать за развлеченья, но у меня так и не появилось рожек, из чего следует, что я пока не слизень.
— Маша, а ну иди сюда! Я же запретила тебе выходить во двор?
— А я — прямиком!
Лицо мамы округлилось, как у царевны, когда та решилась стать лягушкой.
— Я с тобой не желаю больше разговаривать.
Но что я могла сделать? Мне было от чего прятаться. Обычно детям свойственно пугаться, когда они узнают о существовании смерти, но я перепугалась до состояния капустницы, третьего дня сваренной в борще и рискующей быть обнаруженной в тарелке в любой момент, когда узнала о существовании жизни. О том, что наступит день, когда мои фантазии будут называться только враньём, потому что, как бы я ни старалась быть самой нежной, чистой и благородной, маловероятно, что в обозримом будущем император Нерон или какой-нибудь менее знаменитый Антихрист даст мне шанс под пытками засвидетельствовать свою верность истинному Богу, а значит, последними не будут ни эта неделя, ни месяц, ни год, ни даже пять или десять лет! Кого же так надолго хватит?
Едва ли кого-то из моей семьи, которая за последний месяц могла бы получить гран-при на конкурсе наименее стабильных явлений природы. Из Москвы мы переехали в Краснодар, оттуда — в Воркуту, оттуда — в Ярославль, а теперь — в Камышлов на Урале. Папа приехал сюда расписывать взорванный в советские времена храм, и нас поселили в церковном домике, где было пять комнат и сад с таким количеством цветов, что голова кружилась от их аромата, а летом созревали вишни и чёрная смородина в таких количествах, что можно было собирать их пригоршнями и играть с ними больше, чем есть. А ещё там росли помидоры, но к ним я не притрагивалась уже давно.
Один гость, в Москве ещё, сказал мне более чем доверительным тоном: «Кушай помидоры, вырастешь большая, я тебя с собой на море возьму!» На море мне, конечно, хотелось, но едва ли это того стоило. Поразмыслив хорошенько, я решила: что бы мне ни обещали, это не повод прощаться с детством, и больше помидоры в рот не брала, и яблоки — тоже, на всякий случай, а то мало ли, действительно вырасту быстрее.
Камышлов был бы раем, если б вместо московских поэтов нам не был представлен широкий ассортимент советских бабусь. Среди них встречались и набожные, из свиты местного батюшки — отца Валерия, знающие сорок восемь рецептов пасхальных куличей и всегда готовые поделиться ими с хорошими людьми, и ярые атеистки — подружки тёти Нины, настолько помешанные на здоровом образе жизни, что жвачка стала казаться мне величайшим сокровищем, которое добыть практически невозможно, а отношение к кока-коле на долгие годы мною расценивалось как первое мерило вменяемости при знакомстве. Первых мама называла отрядом «Альфа», и действительно, быстроте их реакции стоило бы поучиться московской скорой и милиции. За пару часов до нашего заселения к дому, пустовавшему перед этим семь лет, подкатил автобус, из которого высыпали храмовые бабки и к нашему приезду успели не только убрать всю паутину, накопившуюся за это время, развесить иконы по углам и занавесочки по окнам, но и затопить печь, напечь пирогов и настругать салатиков в таком количестве, что доедали их потом неделю. Хотя для очистки совести стоит сказать, что мы тут были абсолютно ни при чём — это настоятель храма направил неуёмную энергию уральских старух в, как нам поначалу казалось, вполне мирное русло. С той же целью на каждый праздник, без разницы, светский или церковный, отец Валерий вооружался баяном и устраивал масштабные народные гулянья: бабки плясали, мужики пили водку, а дети зарывались в сено подальше от этого тарарама. Соседки-атеистки приходили скандалить и даже пару раз вызывали милицию, но, если таковая в Камышлове и существовала, она тоже уже давно была задействована в общем деле. Когда батюшка потерял к нам интерес, его свита так же оперативно выпроводила нас за ворота, и это был первый и последний раз на моей памяти, когда их действия были одобрены «антиклерикалками».
Впрочем, я терпеть не могла и тех и других, и, как мне казалось, вполне взаимно. Они являлись в любое время дня и ночи, садились попить чайку и сидели весь вечер, а на меня если и обращали внимание, то только как на навязчивую собачонку, мешающую вести высокоинтеллектуальные беседы о пирожках и настойках. Поначалу я их прекрасно понимала: наша подземная кухня действительно стоила того, чтобы пробираться на неё всеми правдами и неправдами, — большая часть окна находилась под землей, где-то на уровне лица росла желтоватая трава, а выше можно было увидеть что угодно, кроме неба. Обычно там, в вышине, выискивали себе пропитание петухи, но иногда приходил и кто покрупнее. Бабушек не смущало, если во время чаепития над их головами маячил свиной пятачок или, хлопая огромными глазами, заглядывала заинтересованная коровья морда, но стоило мне появиться на кухне всего часа через два, после того как меня отправили спать, с «новой концертной программой», они замечали не какая я талантливая, а какая невоспитанная! Когда же в отместку за бесчеловечное убийство вечера я высморкалась на прощанье в тёти Нинину юбку, она завела долгий (повторявшийся до тех пор, пока мы не съехали) разговор о том, насколько я ненормальная. Увидев, как просияло при этом комплименте моё лицо, мама смутилась и отправила меня в угол! Хотелось бы знать заранее: если император Нерон так и не придёт, какие у меня теперь шансы на соответствие идеалу?
С тех пор моим любимым занятием и стало прятаться в берёзовых поленьях с мокрицами: любоваться сквозь бревенчатые просветы на голубоватые лоскуточки неба, препираться с мимоходящими маразмами и не выныривать из своего убежища, как бы ни запрещали, чтобы не приходилось лихорадочно решать вопрос о своём будущем. Впрочем, я знала, что со мной должно произойти: так как если погибнуть по-библейски в наше время невозможно, мне придётся идти в монастырь; там на меня наденут чёрное платье, и будет всегда то холодно, то жарко, а если пожаловаться, наденут ещё и гантели или какую-нибудь колючую гадость под одежду, и никогда нельзя будет пить не то что кока-колу, даже воду, ведь причащаться придётся каждый день, а перед причастием ничего нельзя. Но мама была снова беременна, а значит, скоро я стану первым, но не единственным ребёнком в семье, а такие дети по закону принадлежат Богу, так что я с каждым звонком в дверь ожидала увидеть в проёме сердитого священника с длинной бородой, который заберёт меня в монастырь, а то и куда похуже. Оказалось — хуже.
Священник действительно пришёл, но не за мной, а за моими родителями. Это было не очень логично с его стороны, ведь виновата была только я.
От своих поленниц я редко выбегала на улицу, потому что там мне приходилось бродить почти в полном одиночестве. Соседские дети звали меня Машей Чок-Чок и не горели желанием со мной общаться. Может, потому что они были меня старше, может, потому что у них был какой-то особый повод избегать меня, но в основном наши беседы сводились к следующему:
— Привет! Как тебя зовут?
— Клубника (в ответ я могла услышать также: огурец, кабачок или вообще что-то не слишком цензурное).
Я смекала, что здесь что-то не так, но, может, это их псевдоним?
— А меня — Маша. Давай дружить?
Они поднимали на меня изумлённые такой бестактностью глаза, хмыкали, разворачивались и уходили. Я до того привыкла к таким диалогам, что, когда одна девочка представилась Ингой и на вопрос о дружбе хитро улыбнулась: «Ну, можно попробовать…», я была готова на неё молиться. Я ждала её под балконом с семи утра и считала величайшей удачей, если успевала занять качель перед её носом, чтобы тут же уступить. В гостях у неё я не была ни разу, и она у меня, вроде, тоже — я не была ещё достойна такой чести. Мы общались только во дворе, где у Инги была куча знакомых, а у меня — никого. Однако именно со мной она обсуждала вкладыши от love is, плела венки из запачканных извёсткой одуванчиков, спускалась в открытые люки в поисках дохлых ёжиков, а однажды между гаражами мы нашли оторванную ногу от куклы Барби, изрядно помятую, но всё ещё изящную. И хотя нашла её Инга, я вцепилась в ногу мёртвой хваткой и не хотела отпускать даже ради моей новой подруги.
— Инга, прошу тебя, оставь её мне! Я тебе всё, что захочешь, отдам! Хочешь обруч для волос или паровозик с вагончиками? (Ноль реакции.) А «Божественную комедию» хочешь? В ней картинки прикольные…
— Хорошо, — вздохнула Инга, — я отдам тебе эту ногу и ничего не возьму взамен, но ты поклянёшься сердцем матери и кровью отца, что, когда я захочу, ты тоже выполнишь моё желание.
— Клянусь!
Это была самая страшная клятва дошкольников: считалось, что у нарушившего её ребёнка родители на следующий день умрут, а братья и сёстры превратятся в «Жигули» и будут вечно преследовать виновника своих несчастий. Но в тот вечер меня это мало беспокоило — засыпая с частью мирового совершенства под подушкой, я знала, что теперь я полноправный член зазаборного мира, раз сама Инга отказалась ради меня от своего сокровища!
Прошла неделя. О клятве я, конечно, благополучно забыла, ногу мама повертела в руках и выкинула: она не могла и предположить, что Барби и всё, что с ней сопричастно, — объект моих мечтаний, особенно после того, что я сделала со своей обычной куклой. В общем, заключённую сделку я из головы выбросила, и Инга, как мне казалось, тоже.
Выбежав через несколько дней во двор, я нашла всю Ингину компанию наблюдающей за огромной белой гусеницей с жироточащими боками и голубоватым узором на спинке. Она абсолютно спокойно ползала туда-сюда по лавочке, безропотно разворачиваясь каждый раз, как перед её носом ставили палочку. Стайка ребят хихикала и щекотала её прутиком, чтобы она свернулась. Я тоже наклонилась, чтобы повнимательнее рассмотреть это чудо природы, но тот, кто играл прутиком, вдруг подцепил её и бросил мне на голову. Я даже не взвизгнула — сама свалится или кто-то из ребят сжалится и снимет её.
— Ах! — воскликнула Инга. — Что ты наделал? Маша! Сейчас она будет ползать по голове и отложит яйца под волосы, так что скоро ты облысеешь! Она ядовитая, сбросить её можно только твоими трусами. Снимай скорее! Смотри, ты уже лысеешь!
— Нет, я лучше домой пойду.
— Маша, я так хочу! Если ты меня не послушаешься, завтра вечером твоя мама родит жигулёнка и разорвётся на части, а папа скажет: «Ах, Машенька, доченька, как мне плохо! Неужели я не стою того, чтобы ради меня снять трусики?» А потом, куда бы ты ни пошла, тебя будет преследовать жигулёнок в памперсах, и когда-нибудь…
Всё, хватит!
Не то чтобы я во всё обещанное подругой верила, но продолжать разговор было настолько тошно, что я стянула под юбкой трусы и швырнула их Инге — бери!
Она стряхнула ими гусеницу на песок, и мы пошли гулять как ни в чем не бывало: качались, лазали по деревьям, а потом я свалилась на землю и уже не надеялась, что она протянет мне руку.
На следующий день мне выходить на улицу не хотелось, но погода была идеальная, а тётя Нина очень вовремя повздыхала, какая я бледная и как детям вредно сидеть дома с книжкой, когда сам бог велит гулять.
На этот раз Инга собрала всех своих знакомых, и не успела я выйти, она уже тащила меня за гаражи, шепча на ухо:
— Будем трусики снимать?
— С какой стати? Оставь меня в покое!
— Что, мамочки боишься? А если я сейчас пойду и расскажу ей, что ты это уже делала?!
— Делай что хочешь.
Вечером мама вызвала меня на кухню.
— Правда, что ты при всех снимала трусы?
— Да.
— И зачем? Зачем, я тебя спрашиваю?
Больше всех гусениц вселенной я боялась её каменного лица и вопросов, на которые нечего ответить. Я запищала, хлопнулась на пол и отвернулась к стенке, закрыв голову руками.
— Ты действительно Маша Чок-Чок. Не показывайся мне на глаза!
И она действительно перестала со мной разговаривать. На ночь мы по-прежнему желали друг другу интересных снов, а днём за руку ходили в церковь, но это всё было для папы. Мама меня предупредила, что, если я буду ходить с кислой миной, она ему всё расскажет, и тогда я останусь совсем одна. Так что я ходила с миной, всегда готовой к бою или встрече со священником.
Впрочем, само изгнанье произошло совсем не так, как я предполагала. Недели через две в том подземном окне вместо ставших уже привычными петухов и коров нарисовалась круглая и абсолютно гладкая физиономия в чёрной вязаной шапочке, больше подходящая московскому братку, чем сельскому батюшке. Я со всех ног бросилась к воротам, но он на меня даже не взглянул:
— Где взрослые?
Папа подошёл следом, но и он заинтересовал гостя не многим больше, чем я; похоже, обладатель шапочки предпочитал беседовать сам с собой:
— Что ж, не всё так плохо. Здесь машину можно поставить, а в гостиную — пианино. Так, что лицо недовольное? Давай показывай, как печку топишь.
Папа топил печку только один раз, но впечатления вся семья получила на год вперёд: дрова он умудрился засунуть не туда, сжёг все газеты в доме, но ни щепки не подпалил. А потом со злости, видимо, откупорил бутылочку бензина и сдобрил им догорающую страницу местного рекламного издания «Из рук в руки», за что и получил прямо в руки огонёк. Правда, каким-то чудом он успел метнуть бутылку во двор, прежде чем она взорвалась, так что пострадал только пол в коридоре, да мама минут двадцать потом гонялась с ковриком за непослушными костерками и ещё минут десять — с мухобойкой за папой. Но пришлый батюшка всего этого не застал.
— Ой, может, не надо показывать?
— Маш, займись пока своими делами, не мешай.
Я пошла собирать вещи, но по дороге вспомнила, что в монастыре их наверняка отнимут, там же всё общее… Может, лучше будущему малышу все игрушки оставить? Я вернулась на кухню:
— А вы не подождёте три дня, пока маму из роддома выпустят?
— Маша! — взвился папа. — Я тебе что сказал? Не суйся во взрослые разговоры!
От возмущенья я уснула под поленьями: ничего не скажешь, хорошо поэты прощаются со своими первенцами!
Позже мне много раз объясняли, что и сам настоятель, и почётные гражданки ожидали достойного преемника церковного заводилы-администратора с баяном, а приехал мой папа, который священником вообще становиться не собирался, к тому же от радостей общения с местным приходом отказался: просто принёс домой иконы и начал их реставрировать. Он сам быстро сообразил, что попал не туда, когда на вопрос о зарплате настоятель абсолютно серьёзно ответил:
— А зачем тебе?
— Ну… На ботинки хотя бы.
Батюшка покопался и извлёк из недр чуланчика поношенные ботиночки.
— Если что-то ещё понадобится, скажите, мы вам дадим.
Так папа и получал всё лето зарплату — ботинками, огурцами и возмущёнными взглядами «храмовой свиты». Когда же прибыл новый кандидат и сказал: «Если через неделю не съедете, хуже будет!», папа лишь сфокусировал разобщенные фрагменты коллективного подсознательного. Не успела закрыться за гостем калитка, он со всех ног бросился к телефону:
— Ириш, я молился, чтобы Господь как-нибудь вывел нас отсюда, но я не думал, что это произойдёт так скоро!
— Да, действительно, самое время...
Уже на следующий день мама была дома и, уложив новорожденную сестру в плетёную корзинку (никто не озаботился в своё время покупкой коляски), принялась лихорадочно собирать вещи. Рассказывать она тогда ничего не стала, хотя потом, когда Камышлов благополучно остался в прошлом, роддом № 9 стал любимой семейной легендой. Точнее, страшилкой.
Дело в том, что Лиза имела смелость появиться на свет в день города, да ещё и за час до сдачи врачебной смены. К этому моменту две врачихи уже не то что роды принимать, на ногах устоять были не способны по случаю праздника, а третья, старшая, наскоро осмотрев непрошенную роженицу, отчеканила: «Будешь по коридору ходить! Долго тебе ещё. Ходи, если хочешь в ближайшие сутки родить. И чего дома-то не сиделось?! Схватки, говоришь? Нет у тебя никаких схваток. Второго рожаешь, а дура дурой!» На этом напутствии они и простились. Весь персонал покинул этаж. За четверть часа досконально изучив метраж больничного коридора, мама почувствовала, что Лизе это занятие явно надоело, та решительно рвалась в мир. Мама только и успела — заскочить в первую приоткрытую палату, там и осталась. Нечаянная соседка, чью кушетку она заняла столь вероломно, оказалась намного сговорчивее врачей, может быть потому, что сама часа за четыре до этого родила ребёнка. Ещё гуляя по коридору, мама слышала, как она разговаривала с мужем по телефону:
— Алло, Веня! Ты поросят покормил? Корову подоил? Ладно, скоро буду.
Но вместо возвращения домой ей пришлось принимать роды. Мама даже не успела узнать, как звали ту неунывающую женщину, которая, родив шестого ребёнка, выглядела, как школьница, и снова была готова к труду, обороне и подбадриванию ближнего своего. Протянув, как в доисторические времена, неомытый вопящий комочек сразу к груди, она порылась под кушеткой и достала литр полувыдохшегося спрайта.
— Это тебе, если пить захочешь — попьёшь, а то чайник тут один на всю больницу, а мужа к тебе всё равно не пустят… В общем, пошла я, меня дома ждут, обещалась уже, они ведь про тебя не знают.
— А что, никто так и не подойдёт?
— Сегодня навряд ли... Тебе ещё повезло. Моя двоюродная четыре года назад здесь мальчика родила, хорошего, крепенького, мужик её узнал, к друзьям помчался «обмывать», как положено. Так эти, медички, мальчонку уронили, видно, на пол кафельный. И хоть бы что им. Ничего лучше не нашли, как завернуть его, мёртвенького, в газету и на окошко в родильной положить. Или убрать не успели, уж и не знаю. На кормление-то ей не принесли его, она и пошла выяснять. Заходит — а в свёртке её ребёнок не дышит и пол-личика — синенькие! А в карточку потом «кровоизлияние в мозг» записали. Судись с ними, толку что? Трупик выдали хоть. А там другие сложности: имени новорожденному дать не успели, а без имени вроде как и не человек. Вот и обошлись без всякого ритуал-сервиса: к бабушке в могилу подзахоронили сами, никого не спрашивали... Ну да ладно, чего это я, молоко горьким будет...
После такого утешения мама уже ничему не удивлялась. Пару часов спустя явилась-таки акушерка и принялась орать, что можно бы и поаккуратнее с халатиком, что пусть теперь до выписки и лежит в залитом кровью, раз не умеет казённые вещи ценить, в больнице душа нет, воды нет, жара сорок градусов, а такие вот разгильдяйки тут антисанитарию разводят. Мама начала готовиться к бегству, но именно в это время куда более внушительная по своим масштабам причина для срочной эвакуации уже заслонила наш дверной проём и хорошо поставленным голосом священника заявила: «Всё понятно?! Чтобы через неделю вас здесь не было!»
И хотя корзинку с малышкой по воде не пускали, а вполне цивильно пристроили на столик в свердловско-московском поезде и стали щекотать её пяточки соломинкой для питья, в моих глазах наше семейство отныне предстало святым.
Последнее усугублялось тем, что меня совсем не по-библейски оставили настоящему врагу рода человеческого — тёте Нине! Так я её обозвала не потому, что она не верила ни в Бога, ни в дьявола, куда больше доверяя ОРТ и НТВ, а слово «мечтатель» для неё было равносильно нецензурным ругательствам, вовсе нет. А потому, что нигде я не встречала столько маразмов, сколько у неё в квартире, притом, что она считала себя образцом здравомыслия, даже вполне возможно, и была им.
— Тётя Нина, я похожа на умирающего лебедя? — падала я, закатив глаза под образа, со стола.
— На умирающего — может быть, но только не лебедя.
— А на кого же?
— Ну, может быть, на лося или антилопу гну.
— Значит, из меня не выйдет балерина?
— Человек, Маша, рождается не один раз, так что в следующей жизни ты можешь оказаться кем угодно.
— Что за глупости: в первой жизни побыть маразмом, во второй — убийцей, а в третьей — исправиться?
— Конечно, тебе виднее, с твоим-то жизненным опытом! — тётя Нина никогда не приветствовала «ложь во спасение». — Это твои родители маразмами всю жизнь были и, судя по всему, уже навсегда ими и останутся! Откуда ты вообще такие слова знаешь?
Мои родители называли маразмами любую бессмыслицу в книжках и разговорах, но дома я этих созданий почти не встречала, разве что во дворе, да и там можно было всегда укрыться в берёзовых поленьях, а в Камышлове они выглядели куда органичнее, чем я. Даже самые сокровенные чудеса моей жизни подвергались здесь молчаливой насмешке всех действующих лиц квартиры под чуткой режиссурой тёти Нины.
Конечно, святая Мария в тюрьме ознакомилась с такими существами в полном объёме, но она была на десять лет меня старше и на сотни лет опытнее. А я, первородство готовая за ногу от Барби продать, как я смогу их перехитрить? Я не очень великое чудо, я не чудо вообще, если честно, как же я могу показать, что чудеса существуют? А не покажу, и они мне не будут больше показываться. Тем более, что проникнуть в дом тёти Нины им было бы весьма затруднительно, ведь через столь плотную линию обороны едва ли смог бы прорваться и самый захудаленький проблеск поэзии, даже в примитивно- позитивистском камуфляже.
— Тётя Нина, когда я вырасту, изобретут машину времени и меня возьмут покататься, ведь любая машина в этом мире отчасти машина, хотя бы по звучанию.
— Если бы это было возможно, уже давным-давно всё изобрели. Или для тебя персонально будут стараться? Знаешь, сколько стоят любые разработки?! Без государственного заказа никто палец о палец не ударит.
— А почему государство не хочет заказать машину времени?
— Потому что потому, всё кончается на «у». Чем без толку балаболить, могла бы зеркало помыть, уже третий день обещаешь!
Тётя Нина, в отличие от родителей, старалась загрузить меня по полной, чтобы времени на препирательство с маразмами оставалось по-минимуму, и в большинстве случаев я была ей за это благодарна. А потому, оттирая склизкой посудной тряпкой мной же забрызганное во время чистки зубов зеркало, я могла скрыть, что мне до слёз обидно, что в результате всего, по ту сторону мутного стекла, после всадников, ангельских труб и окровавленных небес, когда все мы утратим то, что при жизни казалось нашими красками, и, как тусклые отраженья, втянемся в тот поблёкший свиток, как в точку после слова «конец», — от всего этого мира останется только едва различимая во вселенских масштабах буква «у». Как за стеклом автомобиля-неудачника, так и не дожившего до наклейки с буквой «я».
Чтобы этого не произошло, на всякий случай вечером я подбежала к зеркалу и, закрыв глаза, дабы в полумраке не видеть отражения маразмов, крутящих пальцами у недоношенных висков, бледно-зелёным, лизанным не раз фломастером начертила через всё стекло кривую букву «я».
Наутро тётя Нина разбудила меня в шесть часов и заставила всё оттирать. Нет, она не исповедовала драконовские методы воспитания (она скорее любила меня и беспричинной жестокости не проявляла никогда). Просто раннее утро оставалось единственным временем суток, когда в Камышлове были возможны непредвиденные бытовые работы: только один раз в день, полшестого утра, водопровод начинал плеваться в раковину рыжеватой ледяной водой, а к семи этот благодатный родник бить переставал, и любителям подольше поспать приходилось унитаз смывать дорогой покупной водой. Даже самые трудолюбивые о такой роскоши, как горячая вода, здесь и не слышали: голову мыли, нагревая воду в эмалированной кружке кипятильником, а холодную копили в отдельных ёмкостях — для приготовления пищи, для мытья полов, для стирки одежды, — на всё были нужны свои запасы, и тётя Нина никак не могла допустить, чтобы они растрачивались на исправление моих шалостей. Так что пришлось мне ни свет ни заря выползать из постели и на практике закреплять мудрое положение о том, что «я» всё же последняя буква алфавита и не более других заслуживает того, чтобы украшать своим присутствием сложноотмываемые предметы.
Увы, смиренному утру быстро пришёл конец: я полдня потратила потом на изготовление визиток и выдумывание своей подписи; в конечном счёте на картонном квадратике устроилась та же буква — «я».
Когда я впервые спустилась в новый двор, там уже тусовалось несколько девочек моего возраста, с цветными резинками в волосах и на удивление схожими улыбками не на губах, а где-то в районе крыльев носа. Не сказать, чтобы они были настроены очень дружелюбно:
— Ты богатая? — выкрикнула, не дожидаясь, пока я подойду ближе, самая главная из них, с фломастерным камуфляжем на ноготках.
— Я? Ну… да, конечно! Вот моя визитка.
Но девочки на визитку не обратили никакого внимания.
— Хм… а почему тогда у тебя нет кепки, как у неё, ботинок, как у неё, и маникюра, как у меня?
— Маникюр мне нельзя, потому что я люблю ногти грызть, а все мои вещи родители в Москве оставили, когда мы переезжали.
Это было правдой лишь отчасти, столичным литераторам (а точнее, их мусорным вёдрам) достались только мои фантики. Но девочки об этом не догадывались, они услышали чарующее слово «Москва», и оно подействовало сильнее, чем мои визитки, — улыбочки моментально переместились с носа на историческую родину, и я почувствовала, что могу уже не спрашивать, будут ли они со мной дружить.
— Ты была в Москве?! И что ты там делала? — не сдавалась главная, на всякий случай вспомнив, что её зовут Алиса, а подруг — Тата, Настя и Галя.
— Вся моя молодость там прошла!
Я, забравшись для торжественности на лавочку с ногами, принялась рассказывать, чем московские супы б/п отличаются от камышловских, что в Москве в любой момент можно пойти в душ и включить ту воду, какую хочется, что телевизор показывает не по двум, а по двенадцати каналам, что в зоопарке живут розовые фламинго и утки-мандаринки, а на улицах, как ни старайся, не встретишь ни гусениц, ни безногих кукол Барби.
— Ты и в макдоналдсе была? — заискивающе прошептала Тата.
— Конечно!
Конечно, я там была, правда, запомнила только очереди длиной в полкилометра, а это едва ли впечатлило моих слушательниц.
Тот вечер был для меня почти бенефисом: что-то я действительно вспоминала, что-то придумывала на ходу, но о главном отличии Москвы от Камышлова я умолчала, и девочка с камуфляжным маникюром не могла этого не заметить.
— А что ты тогда здесь делаешь?
— Я сама виновата, но это другая история. Если коротко, моих родителей хотел забрать священник. Вместо меня. Потому что я оказалась недостойна. Но они сбежали, а меня оставили с людьми (прямо как Ундину, хотя о ней я не стала говорить). Они никогда не вернутся за мной.
— А они что, не люди?
— Нет. Они поэты.
Действительно, общего у людей с поэтами очень мало. По крайней мере, если за человека считать тётю Нину. Когда я встретила в её квартире книжный шкаф с чугунным петушком на верхней полке, я застонала от восторга так, что она решила, будто мне плохо. Но в шкафу не оказалось ни «Божественной», ни какой-либо другой комедии: тётя Нина читала только медицинские справочники, чего и мне от всей души желала. Но я посчитала дурацким розыгрышем фразы о том, что наше горло похоже на розового червяка, а сердце — на кулак. Тётя Нина с первого взгляда поняла, что я просто идеальный пример неправильного воспитания церковников: стихи ребёнок может весь вечер лепетать, а шнурки к пяти годам не научился завязывать, молитвы припомнит на все случаи жизни, но каждый день приходится напоминать чистить зубы, рассуждает о глубинных отличиях Византийской империи от Римской и при этом не может избавиться от не слишком полезной для детского здоровья привычки плакать по ночам в подушку, называя её шёпотом Душой Света.
Уличив меня в последнем пару раз, тётя Нина стала укладывать меня спать рядом с собой, так что мне поневоле пришлось разделить с ней звание почетного сериаловеда Мексики. Камышловское время на четыре часа отличалось от московского, поэтому под вечерние сеансы я засыпала, а под утренние тётя Нина устраивала тихий час. Я быстро выучила, как кого зовут, и стала терроризировать свою наставницу сказками на тему: «Сиси и вавилонское пленение» или «Как Джину съели волки в Колизее», а блондинке Милагрес даже письмо написала, вроде этого: «Милая Милогрыз! Как же тибе наверное скучно! Зачем ты куриш, бедная? Такая маладая красивая а живёш с глупыми людьми в сириале который смотрят другие глупые люди! Мне очень жаль что тебя случайно убили теперь тебе будет ещё скучнея. Приходи ка мне я тебя угащу вредным соком юпи из пакетика, я его под шкафом от тёти нины прячу! Она гаворит, он идовитый но эта не правда он такой что пальчики аближеш сладкий! А тибя ведь уже атровили ты раскажеш как пахнет атрава и как выглидят наши серца! Я буду ждать!»
Я спрятала послание под телевизор, Милагрес вскоре забрала его и сок «юппи» из-под шкафа вытащила. На свидание со мною времени она, видимо, не нашла, но с тётей Ниной, конечно, побеседовала, ведь та потом целый день ходила хмурая, а под конец выдала:
— Ладно уж, королевишна, твоё сердце на НЛО похоже, а не на кулак. Для тебя природа сделала исключение.
Не скажите! Ближайший вечер прошёл так же, как все прошлые и следующие вечера в этой квартире. Одной Ундине понятно, насколько это глупо — жить среди людей, когда тебе не хочется совсем. Но ей-то было около шести, она была невинна и её быстро забрали. А мне пять лет, я не была русалкой, и они никогда не вернутся за мной.
С такими мыслями я засыпала почти против воли, чтобы во сне встретить Милогрыз в пушистом платье, которая за руку поведёт меня домой, но только не в Москву и уж, конечно, не в Камышлов, а в храм. На пороге храма папа возьмёт меня на руки и понесёт смотреть на иконы, подробно рассказывая о тех, кто там изображён.
Маму я даже не увидела — она шла за нами следом и зажигала встречные лампадки так ловко, будто они с самого начала сами собой светились. Храм был огромный и холодный, в сотню, а то и больше, этажей, соединённых между собой струнками-лесенками. Каждый этаж оказывался темнее и прозрачнее, чем прежний, и пальцы мёрзли всё сильнее, но я слушала папу очень внимательно, пока мы не пришли туда, где стены были как деревья в лесу, и каждую икону между ними надо было высматривать и аукать, как потерянную родственную душу. И папа звал, а они к нам выходили. А когда я пискнула что-то вроде: «Где же вы?», перед нами возникла только честная доска. Мама уселась на лесенку и заявила, что очень устала и дальше уже не пойдёт, а папа продолжал идти дальше, и не пытаясь её переубедить. Мне захотелось крикнуть, но, как и следовало ожидать, я лишилась дара речи, так что пришлось кусать папу за пальцы, чтобы привлечь его внимание. Но он не остановился, только почесал мне ухо и продолжил:
«Смотри, дочка, смотри, уже немного осталось: икона над нашими головами — это Лебедь, но не тот, за которого мы голосовали, а обычный, с белыми перьями и длинной шеей. Вытяни шейку! Вот молодец. А знаешь, из чего он состоит? Доска, паволока, левкас, темпера. Проголодалась? Потерпи ещё чуть-чуть, ведь ты интересуешься искусством, ты же умная девочка, у тебя нету ни одной веснушки… Кончай слюнявить пальцы, всё равно не сможешь откусить, я покормлю тебя там, наверху. Смотри, вот царевич Димитрий, он упал на ножик, написан пастелью на разглаженном листе. А это…»
Но мне, правда, надоело слушать, я давно хотела в туалет, промёрзла до костей, а папины волосы так ярко светились в темноте, что мне бы следовало выпить стакан церковного елея, чтоб с ним сравняться в благодати, но, несмотря на это, он не смог меня согреть. Или не хотел. Я замерзала, а мама на своей лесенке, наверное, уже давно оледенела.
«Папа, я дальше не пойду!»
«Не пойдёшь? Ты и так не сделала ни шагу».
«Пусти меня!»
«Узнаёшь? Это король Лир!»
«А почему он синий?!»
«Замёрз».
Наконец я заметила, что все иконы, перед которыми не зажгли лампад, все в синей одежде следуют за нами и у всех волосы сияют, как лампады. И папина куртка с капельками воска на рукавах, в синюю клетку…
Вот и пришли! Под прозрачным куполом всё было прозрачно, только пустые лесенки в том пространстве, где раньше завершались этажи, мигали как гирлянды на искусственной ёлке, и сотни, если не тысячи, икон тянулись к небу, не обращая внимания на нас. Глубоко внизу, на самом дне храма, вместо пола простиралось мутно-оранжевое озеро, похожее на зеркало до слёз. Вдруг из моего кармана выпала визитка с единственной буквой — «Я» — и медленно, но верно начала планировать вниз, пока ехидно не коснулась центра водной глади.
Все разом обернулись на меня и не сказали ничего. Здесь вообще было очень тихо. Они смотрели «по-взрослому», что означало всегда одно: если нам и есть, чего стесняться, то это — ты.
«Маш, а поаккуратнее нельзя?» — дёрнулся папа. Но, в конце концов, я ведь не у тёти Нины! Хотя, какая разница. Я поняла, что это не иконы, а маразмы, такие же, как в квартире тёти Нины, — заслуженно ограждённые от любых мучений за бесцельно прожитые годы. Я боялась поднять на них глаза, чтобы случайно не встретиться взглядом со зрачками, пульсирующими сквозь радужные желтки, которые текли по их ликам.
Ни Ундина, ни Милогрыз никогда бы сюда не попали. Они только и могут проводить до ворот и слинять, ведь сколько бы такие существа ни прожили среди людей, как только их что-то напугает, любая лодка перевернётся, как песочные часы, и вернёт их туда, где им место. Впрочем, кто мне мешает поступить так же? Папа, пусти! Но озеро больно ударило меня. Зеркало?! Да, конечно же, это не озеро, а зеркало, кишащее отражениями подкупольных существ. Но меня оказалось недостаточно, чтобы его разбить — разбилась я.
И долго не могла пошевелиться, пока тот самый мальчик не пришёл за мной, опять взял меня за тонкую верёвочку и потащил к берегу. Как полтора года назад — те же потёртые сапожки с круглыми носами, та же малиновая варежка, а выше своих полозьев я, как и тогда, не могла ничего увидеть.
«Не бросай меня больше!»
«Почему?»
«Потому что всё изменилось».
«А ты?»
«Я научилась говорить с тобой...» Мы выбрались на берег, больше напоминавший Камышлов, чем храм, так что я припомнила ещё кое-что важное:
«...и разучилась — со всеми остальными. А ты меня бросил!»
«Но ведь не на песок, как ты и просила. Ты должна просить то, что тебе действительно нужно, а не то, что придёт в голову, ты ведь больше не санки».
«Почему же мы тогда едем?»
«По птичьим костям».
Подо мной действительно что-то давно уже хрустело, но я была уверена, что это снег!
«Остановись!»
«Не бойся, они оживут в своё время».
«Это что, Лебединое Озеро?»
«Нет, эти птицы не летали».
«Пингвины?»
«Нет. Они погибли, врезавшись в потолок».
«Поэтому ты меня держишь за верёвочку? Я больше не санки, но этот хвостик-верёвочка у меня будет всегда, пока из запятой я не превращусь обратно в точку?!»
«Не надо, оставайся запятой, иначе никто тебя не сможет удержать, ты вернёшься под купол и станешь одной из этих... Понимаешь?..»
Я понимала. Когда на завтрак тётя Нина дала мне яйцо всмятку, я зажала рот руками и побежала в туалет.
— Можно я не буду завтракать, тётя Нина? Я больше хочу поплакать.
— Что? Покакать? — это едва ли не единственная тема, способная заинтересовать тётю Нину, даже сериалы она предпочитала переваривать молча. — У тебя что, понос?
— Не покакать, тётя Нина, а поплакать... Достань мне мамину фотографию!
— Маш, слушай, мне влом сейчас её искать. Сегодня «Ромео и Джульетту» должны показывать по «Культуре», может, над ними поплачешь?
Обычно в подобных случаях тётя Нина доставала фотографию, где мама ещё с косой, школьница, и тогда маразмы не только не ступали на нашу территорию, но и не существовали в нашей жизни вовсе. Чаще всего пяти минут вполне хватало, чтобы выплакать всё, что нужно, и вернуться к нормальному функционированию.
...уже около получаса мальчики в колготках спорили о феях снов, но не показали ни одной из них, при этом хохоча, сплетничая и не давая ни малейшего повода к состраданию. Мне всё это надоело ещё до появления Джульетты, пришлось взять толстенный справочник народной медицины и идти с ним на балкон, любоваться отцветшей сиренью. Тётя Нина не подозревала, что справочник мне понадобился, чтобы подложить себе под попу, и поэтому встретила меня с таким сияющим лицом, что я даже испугалась.
— Машенька, расскажи-ка, что ты прочитала? Я же с самого начала знала, что ты практически мыслящий ребёнок.
— Я не умею! — соврала я. — И вообще... Мне надо на кочегарку.
Мы с девочками давно собирались туда сходить. Для большинства жителей Камышлова кочегарка служила публичным термометром: если дым из трубы уходит в небо — на улице холоднее минус двадцати, если стелется по земле — теплее, а если его нет вообще, значит на дворе лето. Или что-то вроде того. Сейчас была осень, но батареи ещё не топили, а значит, и в кочегарке нужды не было. Но она могла заработать в любое время, и поэтому девочки решили не откладывать больше свою экспедицию к ней, запланированную ещё в те незапамятные времена, когда меня с ними не было. Я участвовала, конечно, но не официально, если так можно выразиться, — ждать бы меня никто не стал, несмотря на мой вклад в дело развития дворового туризма. Так что мне в тот день было не до культур-фильмов и не до справочников.
Впечатляла не столько сама труба, казавшаяся из тёти Нининого окна такой миниатюрной, а на деле превышавшая своей толщиной самую популярную берёзу района — королеву Марго, сколько горы угольного песка под ней. В эти горы можно было прыгать с высокой закопчённой лесенки, как будто специально над ними припаянной к трубе. Когда по праву старшинства Алиса шмякнулась в ещё не тронутую кучу сажи, поднявшееся чёрное облако оказалось настолько густым, что мы не сразу различили в своих дружных рядах двух чужаков. Они были местные и поэтому сажевые облака волновали их заметно меньше, чем новые знакомства. Алиса не горела желанием с ними связываться, пока Стасик не достал из кармана мятую пачку m&m's и, положив её на лавочку, чтобы все могли взять, осторожно спросил:
— Будем друзьями? Я Стасик, а это — Настя.
— У нас уже есть одна Настя, — с интонацией, как будто ловила губами первые снежинки, а поймала рыбью косточку под сердце, ухмыльнулась Алиса, — даже не знаю, что делать?
— Я знаю, — меня неожиданно для самой себя выбросило прямо перед ней, — они будут с нами дружить, пока они этого хотят, и не важно, Настя её зовут или Марина!
Алиса несколько обалдела, но спорить не стала и полезла вверх по трубе, предоставив остальным самим решать, как относиться к коренному населению. И я была безмерно благодарна им за этот вечер, хотя ничего неожиданного не произошло: минут через двадцать наша компания прыгала в сажу в своём первоначальном составе, а гости — хозяева уже сбежали в соседний двор кататься на самокате, не забыв прихватить свой пакетик m&m's, зато я впервые в жизни увидела, пусть и не надолго, людей, которые сами захотели стать моими друзьями.
Однако такое отношение обязывало меня к большим жертвам, чем я поначалу предполагала. В этом я имела возможность убедиться уже на следующее утро, когда Настя и Стасик пришли гулять в наш двор.
— Девчонки, привет, чем занимаемся?
Мы ещё ничем не занимались, Алиса пока даже из дома не вышла. Тата выпалила за всех:
— Мы в светофор играем, уже давно!
Нечто тусклое серо-коричневое, одетое на Комарищиках (не пугайтесь, это их фамилия!), никак не располагало к участию в игре, но гости ничуть не растерялись:
— Какая ерунда! Давайте лучше в пионербол!
Меня не особо вдохновляли как пионеры, так и слова, оканчивающиеся на «бол», но у Гали нашлась куда более убедительная отговорка:
— А мяч у вас есть?
— Нет... — опечалились разом Комарищики.
Мне стало их жаль, всё-таки это мои первые бескорыстные друзья.
— Может, все вместе поиграем в «Розу и парикмахера»?
Девочки зыркнули на меня как на человека, пытающегося выдать военную тайну через восемь лет после окончания войны.
— Конечно, давайте в «Розу и парикмахера», — подхватил сияющий Стасик. — А как это?
Об этом я ни малейшего представления не имела.
— Ну… Вот этот столб будет букетом роз, хотя нет, лучше шиповником… Ах вот, под Алисиным балконом есть настоящий шиповник — парикмахер должен сорвать цветок и принести жене садовника, чтобы она в него влюбилась. А садовник не должен давать ему это делать.
— А жена? — протянула Галя.
— А жена сбежит с другим любовником, и тот, кто победит, убьёт её.
— Ясно, значит, она ничего не делает.
— Пока не заведёт любовника.
— Это не игра, а сериал!
— Зато мяча не надо.
— Ну хорошо, — не выдержала Тата, до этого мирно топтавшаяся в стороне и делавшая вид, что ничего не слушает, — тогда ты — любовник!
И они все дружно набросились на меня, повалили в песок и стали щекотать со всех сторон, хихикая: «Кто придумал, тот и водит!» Я отбивалась, как умела, — царапаясь, пинаясь и дико хохоча. Неизвестно, как бы долго это ещё продолжалось, если бы не вышла Алиса и не заявила, что мы выглядим, как ясли на прогулке. Впрочем, появление новеньких в нашем дворе она восприняла как данность, и это было, кажется, первое моё достижение за последний год. Тем более, что «Роза и парикмахер» оказалась вовсе не самой скучной игрой в истории человечества, в чём мы скоро имели возможность убедиться, когда Алиса надумала поиграть в гаишников: залезла в папину машину, пристегнула ремень и заявила, что, когда она хлопнет в ладоши, мы, гаишники, можем подойти и посмотреть, держится ли она за ручку, и если она держаться не будет, то заплатит штраф, какой мы захотим. Неудивительно, что до обеда она не хлопнула в ладоши ни разу, а после обеда нас с Комарищиками уже во дворе не было.
— Ну у вас и игры! — бормотал Стасик по дороге на кочегарку.
Меня умиротворяло присутствие Насти: когда меня все щекотали, она меланхолично грызла ногти в сторонке, а когда мы топтались у машины, она пыталась найти цветы шиповника под осенним кустом, и за весь день не сказала ни слова, что любому внушило бы доверие. Но, видимо, моё доверие оказалось Насте не по плечу: она вдруг запнулась и упала коленкой на асфальт.
Настя собралась идти домой, но я перепугалась и пообещала, что быстро её вылечу. Для этого мы со Стасиком обегали весь двор в поисках незабудок, которые, по моим представлениям, должны были лечить любые раны, душевные и телесные, потому что это были мои любимые цветы, а в пять лет мало кто способен отличить то, что любишь, от того, что в данный момент жизненно необходимо.
— С чего ты взяла, что нам нужны именно незабудки? — не выдержал Стасик, когда за сорок минут мы не нашли ничего маленького и цветущего. — Откуда ты вообще знаешь, что нам нужно?
— Откуда? Моя тётя врач, и я знаю достаточно, чтобы лечить ссадины! Я знаю даже, как лечить псориаз, чуму и бешенство репейником!
— А что это?
— Репейник или бешенство?
— Чума, бешенство и то, другое...
— Псориаз — много бородавок, которые расходятся по телу и делают людей такими уродливыми, что им остаётся только повеситься, ведь кожа слезает с них прямо на глазах, — с упоением вещала я перед застывшими от изумления Комарищиками. — Чума — самая великая болезнь, спастись от неё почти невозможно, весь мир способен заразиться ею мгновенно. Она похожа на девушку с чёрными волосами и вечно печальными глазами. Когда людские преступления переполняют чашу терпения Всевышнего, она возвращается в этот мир и её дыханье убивает всё живое.
— Кроме репейника?
— Видимо, так... А бешенство — самая страшная болезнь на свете. Она передаётся от животных через укус, а от людей при поцелуе. От этого у тебя надувается язык, глаза наливаются кровью, ты не можешь ни есть, ни пить, не понимаешь ничего, начинаешь видеть призраков повсюду, боишься любого шороха, сходишь с ума и начинаешь выть на луну и кусать тех, кто окажется поблизости. Потом умрёшь от голода и жажды, утратив человеческий облик... если сразу после укуса не убьёшь животное, которое тебя покусало, и не съешь его мозги и печень…
— Всё, я ухожу домой! — закричала Настя, уже давно порывавшаяся вскочить со скамейки. — Вы чокнутые обе, и ты, и твоя тётя!
Я попыталась схватить её за руку, но за сестрёнку вступился Стасик:
— Пусть идёт. Она у меня жуткая трусиха. Когда у нас папа криминальную хронику смотрит, она под кровать прячется и потом спать никому не даёт неделю.
— Прости! — представив на секунду, как мои сказки должны выглядеть в глазах неискушённой Насти, я сама перепугалась до той степени, когда кажется, что проглотила круглый чёрный камень и теперь он где-то в животе тебя всю наполняет холодом и
дрожью.
— Прости, я тоже трусиха, но когда я кого-то пугаю, то перестаю бояться. Пожалуйста, не уходи, давай поиграем!
— Во что можно играть вдвоём? Разве что трахаться, — глубокомысленно изрёк оставшийся Комарищик.
— А это как?
— Пойдём за гаражи, сними трусы, я тебе покажу.
Долю секунды я боролась с собственным любопытством и за это время успела вспомнить массу способов более увлекательного применения тех великолепных гаражей, которые он упомянул.
— Постой, зачем нам прятаться? Полезли на гаражи! На крыши!
— Трахаться?
— Нет, глупый человек, играть в рыцарей.
— А как же…
— Ты лезешь или нет?
Забраться наверх было совсем не трудно — гаражи стояли так близко друг к другу, что стоило вскарабкаться на крайний трухлявый сарайчик, и весь комплекс оказывался в нашем распоряжении. Крепость оказалась что надо. Стоя внизу, сложно было даже вообразить, насколько надёжно эти залитые битумом крыши способны укрыть тебя от нелепого мира, а мир — от тебя. Большинство крыш уже давно просело, так что если не подползать к краю, снаружи почти никто тебя не увидит; а за некоторыми поднимающимися к небу треугольниками можно хранить припасы, боевые и съедобные. Там достаточно грязи, чтобы никто не заглядывал сюда, кроме семян берёзок, которые дорастают до того момента, когда могут позволить себе два-три желтоватых листочка, и растерянно останавливаются на достигнутом. Но это был тот самый мир, который стоило защищать до последней капли крови, хотя бы потому, что больше никому в голову такая идея не пришла бы.
— Завтра я принесу сюда еду и всё необходимое, а потом ты посвятишь в рыцари меня, а я — тебя, и мы станем жить в этой крепости и охранять её.
— А Настю можно позвать?
— Если она захочет.
Она не захотела. Она вообще не вышла гулять на следующее утро. Наверное, потому что не хотела вставать раньше одиннадцати, а в двенадцать их всё равно загнали бы обедать.
— Она всю ночь сидела под кроватью и трусила, — жаловался Стасик, вместо того чтобы помочь мне затащить в «крепость» хлебницу с сушками, бутербродами и карамельками. Я её спёрла из шкафа в коридоре тёти Нины; когда она заметит пропажу, мне светит до пяти дней лишения свободы (дольше со мной наедине она сама выдержала бы едва ли, даже если бы я читала ей по восемь часов вслух), но Стасик мой героизм не оценил:
— Маш, зачем это?
— В осаждённой крепости можно и полгода провести, как же ты собираешься делать это без всяких запасов?
— А мы школу не пропустим?
— Встань на колени.
— Я не буду!
— Ладно, я первая, раз ты боишься, — и я опустилась на колени, и целовала его руку, и клялась служить верой и правдой против всех мужчин и женщин, кроме поэтов, шёпотом подсказывая Стасику, что он должен отвечать мне. Потом почти насильно заставила его уткнуться коленками в песок.
— Маша, я хочу быть русалочкой, как ты!
— Я не русалочка, пень дубовый, я — рыцарь, и ты — тем более. Посмотри на себя, где ты видел русалочку со стриженной под ёжика головой?
В общем, с некоторым скрипом мне всё же удалось затащить его на гараж. Но не успели мы догрызть сушки, как на окошке в области второго этажа встрепенулась занавесочка, из-под неё вынырнула достаточно внушительная харя, чтобы принадлежать долгожданному врагу.
— Вы что, засранцы, делаете на моём гараже? Вон отсюда! Чо, оглохли?
— Мы вас не слышим и не будем слушать! — выкрикнула я, почувствовав прибли-жение настоящей битвы.
— Ах, слушать они не хотят! Ну, сейчас я выйду, таких пендюлей наваляю, что яйца отвалятся!
Харя исчезла.
— Маша, он ведь действительно спустится!
— Конечно, а какая же война без врагов и кровопролития?
Мой брат-рыцарь согласно кивнул, но, как только дверь подъезда хлопнула и нам навстречу бросилась со всех своих коротеньких ножек харя из форточки, полная нецензурных ругательств и довольно свежих идей на тему, что именно из нас сделать, когда поймает, Стасика мигом сдуло с гаража. Я осталась последним защитником, зато самым верным из всех.
— Тебе что, блядь, не ясно было сказано?
Весил дядечка не меньше ста килограммов, так что штурмовать гараж через сарайчик был не слишком способен.
— И как вы меня достанете с вашим пузатым брюхом!
— Ах ты, уёбина с косичками! Так, значит, будем разговаривать?!
Сперва мне показалось, что грохочет лопнувшее терпение хари, но нет, это противник швырнул в меня достаточно увесистым камнем, но с первого раза он показал себя не более метким, чем ловким. От такой удачи я абсолютно потеряла голову, которая и так в подобные минуты работала в режиме офф-лайн. Я подскочила к самому краю и принялась скакать на одной ножке, не обращая ни малейшего внимания на прежнего хозяина крепости, пока он не швырнул мне булыжником в лодыжку. А потом настраивать внимание было немного поздновато, потому что я уже лежала животом на земле, уткнувшись в его домашние тапочки и судорожно пыталась вспомнить, что же люди делают, когда им хочется дышать. Видимо, выглядела я настолько жалко, что голова в домашних тапочках, доблестно защищавшая святость частной собственности, сама порядком струхнула и, вместо того чтобы меня добить, поспешно покинула место боя, по направлению к пивному ларьку.
Увидев, что опасность миновала, из подъезда высунулся Стасик и, оглянувшись по сторонам, прошмыгнул ко мне. Я к этому моменту уже вспомнила, как люди дышат, и даже худо-бедно научилась делать то же самое с отбитым животом и кровоточащей ногой.
— Маша, ты жива?
— Убирайся! — выдохнула я и поковыляла к лавочке.
Мой напарник поплёлся следом.
— Отстань от меня, предатель!
— Хочешь, я найду тебе цветы, чтобы нога не болела?
— Я не Настя! — с этим утверждением если и можно было поспорить, то будучи куда более подкованным в области риторики, чем Стасик. Так что пришлось ему смириться и отпустить меня домой, что обидело меня не меньше, чем его жалкая попытка примирения.
Тётя Нина почти не возмутилась и про старую хлебницу не спросила, но зато заставила меня оттирать рану щеткой с мылом в холодной воде, чтобы не попала инфекция. В качестве награды за терпение позволила привязать к ноге листочки каланхойе с окна. Это был единственный цветок, который меня утешал в тот вечер, хотя Стасик и донимал тётю Нину, приходя каждые пять минут с пучками полуотцветших дворовых растеньиц или проволочно-клеенчатыми розочками. Я к нему не выходила, мамину фотографию из рук не выпускала и ни на секунду не прекращала размазывать героические сопли по лицу. Последний раз Стасик заглянул к нам после «Спокойной ночи, малыши» и почти кричал, что его уже сейчас загонят, но он не виноват, что я делаю, что сама хочу, и что я вреднее Насти. Это даже умилило тётю Нину, но не меня:
— Маш, там опять твой кавалер, он уже спать идёт. Может, выйдешь, он лютики принёс и ещё какие-то цветы в подъезде оставил.
— Он мне не кавалер, а цветы, наверное, на лекарства.
— На какие лекарства?
— Тётя Нина, он же глупый! Откуда я знаю, для чего нужны искусственные цветы по двести рублей на могилку.
Вообще мне сегодня сказочно повезло: я сыграла главную роль в защите крепости и мне принесли достаточно цветов, чтоб вылечить стадо коров от топографического идиотизма. Но потом от вечера, полного слёз, у меня разболелась голова и поднялась температура, так что тётя Нина сама читала мне сказки до трёх часов ночи, почти как мама. А цветы и правда пригодились на могилку, правда, не на мою.
Утром кто-то поскрёбся в дверь. Это была Настя, трусиха, по словам Стасика, но всё же не предательница.
— Маша, выходи!
Она была почти в пижаме, так что я захлопнула дверь на защёлку и выбежала, не задумываясь, вон. Только на лестнице я заметила: то, что показалось мне пижамой, на самом деле было грязной футболкой и рейтузами, я одна оказалась в ночной рубашке и шлёпанцах, но Настя не замечала, да и что теперь делать — будить тётю Нину и объяснять, как я тут очутилась в таком виде? Тем более, что у Насти был вопрос более неотложный:
— Маша, где у котёнка печень?
— Чего?
— Котёнок покусал мою подружку и исцарапал. Мы его убили.
— Зачем?!
— Чтобы она не взбесилась — не стала кусаться и плеваться.
— Ну вы дуры… Я же говорила про лис, волков, оборотней, собак на худой конец, а котята тут при чём?
Я не задумывалась раньше, насколько неприлично выходить на улицу в ночнушке, но теперь было не лучшее время философствовать. Тем более, я не сомневалась в том, что мы бредём к гаражам во сне, а может быть, и где-нибудь поглубже. Вот почему я не удивилась и уж точно не испугалась, когда под нашей чудесной крепостью увидела затвердевший трупик, как будто слепленный из лишних пластилиновых ошмётков.
— Он точно не умер сам по себе?
— Да нет же! Это было вообще вчера. Вечером. Он был такой нахальный!..
Только у мёртвых или очень счастливых кошек можно увидеть серенькие губки, растянутые в некоторое подобие человеческой улыбки. Может, поэтому, перевернув его на спину исцарапанными, в крохотных уколах от иголочек-зубов руками, Настя вдруг что-то поняла, застонала и стала хлюпать носом. Я прекрасно понимала, что тоже обязана хотя бы всхлипнуть, ведь в этой смерти есть и моя вина, но, видимо, все слёзы я выплакала вчера.
— Передай своей подружке, что бешенством она не заболеет, да и не заболела бы... Давай его похороним.
Насте было всё равно, только бы не видеть затвердевшее тельце честного, не бешеного котёнка. Мы нашли коробку из-под апельсинов и сняли платьице со старой куклы, найденной на помойке. Теперь невинно убиенный кис лежал, будто на троне, гроб, конечно, был ему великоват, но во дворе достаточно песка, чтобы его засыпать.
— Не надо, не засыпай, Маша, не засыпай!
Мы выбрали место под моим балконом и притащили песка. Я совсем окоченела, пальцы не сгибались, хотелось спать как никогда. Наверное, поэтому я не заметила, как нас у апельсиновой коробки стало трое. Видимо, Стасик принёс цветы. Нельзя же без цветов!
— Не надо, Маша, не засыпай!
— Тебя спросить забыли, предатель! — отрезала я, не оборачиваясь.
Или это был не Стасик?! Комарищик ещё спал, когда вставало солнце. А тот, кто приходил, опять ушёл откуда приходил, потому что лучше бы знать, куда идёшь, а то рискуешь прийти туда, где тебя никто не ждал, и... В общем, пора бы уже научиться просыпаться, а не засыпать себя и остальных. Да, цветы нашлись, цветы из клеёнки, а потому они не замёрзли под моим окном за ночь, только покрылись инеем, но белая могилка выглядит эффектнее, чем песочная.
— А в ларьке через дорогу продаётся такой же белый молочный шоколад за триста, — вспомнила вдруг Настя, когда я уже почти уговорила себя расплакаться.
— Ты что, совсем? — огрызнулась я. — За триста можно купить киндер-сюрприз с пингвинёнком Лоло или пятнадцать жвачек «Love is», а шоколадку свою ешь сама!
— Но у меня нет денег. Давай устроимся на работу! Знаешь, сколько нищие зарабатывают?! На двадцать шоколадок за один раз хватит. На другую работу нас всё равно не возьмут.
Конечно, не возьмут. Если меня куда-то и берут, то или в храм маразмов или к тёте Нине. Которая, кстати, уже проснулась и наверняка, разыскивая меня, пропустила серию «Санта-Барбары»…
— Да, ты права. Бежим прямо сейчас!
— Хорошо, только милостыню будешь просить ты, — сморщила нос Настя.
— Это ещё почему?
— Потому что мне страшно.
Святая невинность! Если с кем-то и не стоит сбегать из дома, так это с Комарищиками.
— А котёнка убивать не страшно было?
— Я не похожа на нищенку... — смутилась Настя так искренне, что мне даже стало немного стыдно.
— А я — похожа?
Настя втянула голову в плечи, как собачка, уличённая в опасной близости с хозяйским столом. Но, несмотря на это, на нищенку в данный момент в ночной рубашке, действительно, больше была похожа я.
— Ладно, — пошла я на хитрость, — деньги собирать буду я, но тратить их придётся только тебе! И я буду отчитывать тебя каждый раз, как ты купишь что-нибудь не то!
Настя отвернулась и расплакалась, лепеча:
— Маша, не надо, можно я лучше в комнате буду убирать?
Ну и что прикажете с ней делать? Я отправила подругу к гаражам за хлебницей (там ещё должны были оставаться бутерброды с прошлого раза), а сама пошла к ларькам зарабатывать.
— Простите, у вас не будет деся... ста рублей лишних, а то мне не хватает на шоколадку?
Почему-то прохожий принялся рыться в карманах с таким усердием, как будто я не маленький ребёнок, а рэкетир, и отдал мне всю свою мелочь с такой улыбкой, что даже я пришла в восторг, не говоря уже о Насте. И хотя мои пальцы от холода давно не сгибались и пульсировали, как если засунуть их в батарею, купили мы, конечно же, мороженое. «Лакомку». Разумеется, через пять минут она оказалась на моей рубашке.
— Ну вот, теперь ты точно нищенка, — просияла Настя.
— Может, и попить наберётся? Где, кстати, бутерброды?
— Маша, они протухли...
Конечно, на гараж она не лазила, но разве это стоит того, чтобы портить первое зимнее утро, когда лишь оторвёшь глаза от побелевшего за ночь асфальта, и анимашно-голубое небо ведром холодной воды опрокидывается на тебя. Когда твой нос замёрз настолько, что стал на ощупь забавным, как клюв дельфина…
— Настя, а можно я погрею ладони в твоих подмышках?
Настя не возражала — прохожих не предвиделось, а чтобы бродить вдвоём, руки не очень и нужны. Так мы и бродили — руками в одной куртке, даже в классики прыгали пару раз, почти не падая, пока на горизонте не возникла женщина неопределённого возраста, с приличной сумкой и настолько аккуратным париком, что я сразу прониклась к ней доверием. Вынырнув из Настиных рукавов и даже не почувствовав холода, я дёрнулась даме навстречу:
— Простите, а вы бы не могли нам добавить пятьдесят рублей на кока-колу, а то нам не хватает?
— Маша?!
Завитой парик надёжно скрывал подругу тёти Нины, нашу соседку по подъезду. На самом деле ей было за шестьдесят, но в Камышлове никто не испытывал проблем с маскировкой. Кроме меня. Тётя Шура не поверила, что я теперь нищенка, и потащила меня домой.
Я раньше слышала, что те, кто провёл хотя бы одну ночь в лесу, вернуться в прежний мир уже не могут, потому что успевают измениться и отвыкнуть от человечьего жилья. И, хотя я пробыла нищенкой всего пару часов, мне тоже стало противно находиться в тёти Нининой квартире: мало того, что невыносимо душно, что мои пятнисто-фиолетовые пальцы готовы отвалиться в любой момент, так меня ещё заставили переодеться в пышущий жаром колючий комбинезон и вместо холодной воды, которую я просила, дали горячий чай. Я даже не заметила, что тётя Нина не стала меня ругать. Но на размышления у меня не хватало сил — я сражалась с мёдом и молоком, соображая, что, если есть на свете страны, где в летнюю жару вместо воды в реках течёт эта засахаренная пакость, они уж точно не рай. Рай — это там, где вместо сериалов ставят на ночь «Синюю птицу». Когда это чудо произошло тем же вечером, я так смутилась, что пообещала больше не убегать, даже если отпустят (я знала, что не отпустят всё равно).
Но уже на следующий день я ощутила, что если тётя Нина и изменилась, то не в лучшую сторону. Раньше мой здоровый образ жизни ограничивался чтеньем «народной медицины», теперь же меня заставляли промывать нос водой с луком. Раньше я днём ходила гулять с девочками, теперь меня, как детсадовского ребёнка, укладывали спать на «тихий час». Но главное, если раньше всё, к чему я привыкла дома, вызывало лишь лёгкую усмешку, то теперь я не могла об этом даже заикнуться.
— А вы сегодня не будете «Санта-Барбару» смотреть?
— Она по воскресеньям не идёт.
— Вы же обещали моему папе, что мы будем ходить по воскресеньям в церковь!
— Там и без тебя побирушек хватает! — отрезала тётя Нина и включила телевизор.
— Но вы же обещали моим родителям! — я встала перед экраном и упёрла руки в боки.
— Да? И чему твои родители тебя научили? Лопотать молитвы и среди соседей побираться? Ты к двум годам за столом ложкой в рот не попадала, до сих пор ни одной прививки сделать не удосужились, а туда же — в церковь её каждую неделю таскать! Я этой блажи достаточно потворствовала, но ты сама показала, на что способна.
— Замолчи! — я попробовала взвизгнуть как можно громче, но подавилась собственным голосом.
— Эй, что это с тобой?
Ничего. Я больше не вопила. Мне просто на секунду показалось, что девушка с шампунем на экране сейчас меня обнимет, я попробовала потянуться за ней, но реклама закончилась, и я упала на пол. Тётя Нина так удивилась, что если потом и ругалась, то лишь за чашки разбитые или неубранную постель, а не по существу. Мы вообще больше не спорили. Она уступила, потому что была права, и я об этом знала.
Меня даже не заставляли читать про уринотерапию и прочие её хобби. Я просиживала на балконе с рассвета и до вечернего выпуска. Оттуда был виден убранный цветами ящик с трупиком котёнка, и больше всего на свете мне хотелось оказаться вместе с ним, чтобы тоже улыбаться нижней губкой и чтобы сирень к весне не только расцвела, но и опала на моих глазах, а я бы притворялась, что ничего не вижу, потому что хвоста, чтобы думать о нём, всё равно не осталось. А может, он бы и не появился, утопись я в зеркале? Впрочем, я и без хвоста не стала человеком, а только точкой, как меня и пугали. Той точкой, которая, даже и втянув в себя пусть не вселенную, а только пять лет жизни собственной и не собственной, не способна ничего отдать назад, потому что пуповина сама оказалась оборвана и завязана бантиком на спине. А может быть, на попе, под которую я складывала все просмотренные книги. За пару недель этот «трон» вырос настолько, что я оказалась выше перил балкона, и мне снова появилось откуда падать. Я снова могла лететь хоть вниз, хоть вверх, сколько хочу, до той преграды, которая и меня остановит и вернёт на круги своя моих ундинок.
В этот день я в первый раз встретила его сапожки наяву и не напротив моего носа. Он, оказывается, был совсем ребёнком, может быть, даже младше меня, с такими крохотными ладошками, что на них хотелось немедленно напялить огромные пушистые рукавички и потащить его под стол, под скатерть с кисточками по краям, и там сидеть, пока не кончится зима и не наступит Пасха, пока его нос не порозовеет, а мой не согреется и не перестанет течь. Но он стоял напротив меня, за перилами, вцепившись пальцами в перегородку и не торопился протянуть мне руку.
— Привет!
— Привет.
— Тебе совсем не стыдно? — на самом деле это мне было неудобно отражаться в его глазах, и я надеялась, что он уйдёт обратно.
— Мне стыдно? — в тот момент он оказался похож на обиженную маму. — И в чём же я успел стать виноватым?
Он самым наглым образом уселся на перила между мной и посыпанным песком обледеневшим асфальтом.
— Ты явился ругать меня без повода, а мог бы и отвести к своим или хотя бы не мешать! — я достаточно сильно его толкнула, но он не только не разбился, но и меня стащил обратно на пол.
— К своим? Разбившимся?
— Я уже не твои санки! Что ты суёшься? Хочешь стать пенсионером или меня им сделать, да?
Он закатил глаза и вытащил из голенища сапога помятую «Алёнку».
— Не надо так, — он положил шоколадку мне на колени. — Ведь мы хотели стать мучениками вместе, было бы смешно так и не дотянуть до Второго пришествия и пропустить всё самое интересное.
— Да? А Христос придёт завтра?
— Конечно, нет.
— Послезавтра?
— Нет.
— После послезавтра?
— Ешь уже… Нет, на этой неделе не придёт.
До меня уже начало доходить, что моя трагедия безнадёжно провалена и мне светило вернуться в комнату и в полном одиночестве муслякать, как связку чупа-чупсов, липкие пальцы-ледышки, так что я немножко опомнилась:
— Ладно, прости меня. Тебе ведь всё равно, а надо мной смеётся даже тётя Нина, и она права. За всю свою жизнь я не сделала сама ни одного шага, и если ты сейчас мне помешаешь, я научусь жить без хвоста и потом меня никто из своих уже не узнает!
— А я для тебя «свой»?
— Да, самый свой из всех, кого я когда-либо встречала. А у тебя нет ещё шоколадки?
Он несколько смутился и как-то неловко прижал меня к себе:
— Тогда ты всегда будешь своей, ведь я никогда тебя не брошу.
— Поклянись сердцем матери и кровью отца!
— Ты думаешь, они у меня есть?
— Ну, поклянись чем хочешь, мне так нужен малейший повод, чтобы безоглядно тебе поверить!
— Я клянусь шоколадкой «Алёнка», Вторым пришествием и всем, что тебе придёт в голову, что ты никогда не останешься одна, тебе всегда будут готовы послать знак, что бы ни произошло, ты всегда останешься запятой.
— … чипи-чипи-чипи-дейл к нам спешат! — перебила его песенка-пищалка, которую обычно я ждала, как в сказках и притчах ждут первых петухов. К счастью, мне не пришлось разрываться между продолжением беседы и «Дисней-клабом», потому что тётя Нина уже стучала прихваткой в балконное окно.
— Мне пора, — от счастья я лизнула его в нос и вернулась в комнату.
В тот вечер я смотрела мультики в полглаза, сама помыла за собой посуду хозяйственным мылом в ведёрке, вынесла весь мусор, и не за гаражи, а на дальнюю помойку, куда обычно мне ходить было до безумия лень.
Вернувшись в комнату, я притащила со двора коробки из-под блоков сигарет, надела их на ноги и весь вечер каталась по ковру, попискивая от восторга и ловя зубами собственную юбку.
— Что на тебя нашло? — возмутилась тётя Нина. — Лучше иди полей цветы!
— Ну нетушки, дельфин на лыжах не может поливать твои цветы.
— А ты теперь дельфин?
— Какая разница! Здесь ведь и так всегда темно, как под водой. Всегда-всегда-всегда! Я кувыркалась по холодной, пахнувшей нелизаной сосулькой свежей простыне. Одеяло давно свалилось на пол, случайно задушив собой маразм, не вовремя попытавшийся ввинтить свою физиономию в кровать. Видимо, тётя Нина сообразила, что эту лёгкость стоит позволять время от времени, она ведь не догадывалась, что теперь это у меня войдёт в привычку. А я знала, хотя и побаивалась ещё верить.
— Тётя Нина, женись на мне! — предложила я за ужином, вылизывая остатки сгущёнки с блюдца.
— Ах, так вот оно что! — засмеялась она. — Ты же к родителям хотела, а не замуж?
— Не женишься? Тогда я ухожу от тебя, — я встала с табуретки, чинно поставила свою чашку и блюдце в раковину и отправилась на балкон, стараясь скрыть своё торжество.
— Эй, ты куда? На улицу уже поздно!
— Нет, поздно не бывает! — Я выскочила на балкон, не одеваясь, в поисках знака. Не обнаружив ничего более существенного, чем брошенная бумажка от шоколадки. — Поспорим, ничего не поздно?!
— Быстро в постель! Дай ей палец, она и руку откусит!
Кажется, никакой это не знак. Через две минуты я уже обиженно сопела под одеялом. Чего только не придумаешь, чтобы опять отложить последний шаг. Хотя бы до утра. Потом до вечера и снова до утра. А потом, может, и вырасту, и пуповина наконец-то заживёт — даже забуду, как было когда-то больно… Как ты там, Милогрыз? Привыкла к телевизору?
— Маш, ты уже заснула? Смотри-ка, там, кажись, НЛО.
Я нехотя открыла глаза и замерла: в небе, над кочегаркой, висела пылающая запятая! И она осталась со мной ночи на три, чтобы уж никаких сомнений не возникало. Тёти Нинин телевизор, конечно, и это пытался оспорить: лопотал что-то про комету Галлея, которая появляется раз в пятьсот семьдесят пять лет, про исследования, которые кто-то проводит в её хвосте, и про то, что это всего лишь стружка, сцарапанная с солнца. Наконец до меня дошло, почему после каждого выпуска новостей тетя Нина заявляла: «Обманывают народ! Наглые рожи, врут и не краснеют!» Я даже снисходительно запоминала все эти сведенья, поливала цветы и спать ложилась вовремя. (Ундина меня поймёт, она-то двенадцать лет жила в избушке, ожидая возвращенья.) Теперь я была готова ждать до Второго Пришествия и дольше, если понадобится, если они готовы всё это время обо мне не забывать, если как бы глубоко я не уструилась в поленья, в тёти Нинину постель, в мерцающий экран, моя комета будет загораться каждый раз, когда я буду забывать, откуда я здесь появилась. И как бы плотно я не захлопывала створки своих глаз, всегда найдётся кто-нибудь, кто незаметно опрокинет на меня ведро такого оглушительного света, что ничего не останется, кроме как, хлопая мокрыми ресницами, обхватить от неожиданности первую попавшуюся руку и развернуть её ладонью к небу — вдруг кто-то тоже любит дождь!
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n292d/






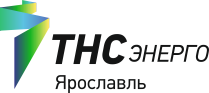



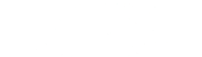
Комментарии: