Валерий ЗАМЫСЛОВ. Сподвижник Петра Великого. Роман
Валерий ЗАМЫСЛОВ
Валерий Александрович Замыслов (1937—2011) родился в Горьковской области, но вся его творческая судьба связана с Ярославским краем. Он жил и трудился в городе Ростове Великом, назвавшем его своим Почетным гражданином.
Из-под пера писателя вышли исторические романы и повести «Набат над Москвой», «Иван Болотников», «На дыбу и плаху», «Ростов Великий», «Святая Русь» (трёхтомник), «Елена Арзамасская», «Град Ярославль», «Иван Сусанин» и другие.
Многие годы Валерий Александрович был главным редактором литературно-краеведческого журнала «Русь».
© Г. В. Замыслова, 2012
Сподвижник Петра Великого
Роман
Глава 1
Рождение сына
Рубленый город.
Богатые хоромы Рюриковича, знатного ярославского князя Ивана Борисовича Троекурова, потомка ярославских удельных князей.
Матерью отца его была Анна Никитична Романова, родная тётка царя Михаила Фёдоровича, сестра всесильного патриарха Филарета, в миру — Фёдора Никитича Романова.
Зело знатен Троекуров! Еще бы: сродник царей Романовых.
В хоромах — переполох. Супруга Мария Алексеевна рождает чадо.
Иван Борисович стоит на коленях перед иконами в крестовой комнате, истово молится Иисусу Христу и святым угодникам, чтобы двад-
цатипятилетняя Мария разрешилась от бремени наследником. Дочери он не желает, на них Троекурову не везёт: обеих Бог забрал в малолетстве. Да коль и остались бы живы и поднялись до девичьей поры — радость не велика: дочери — чужое сокровище. Упорхнут, как птицы из гнезда, и вновь тоска на сердце.
Князю несказанно хочется сына!
Бабка-повитуха сказывала:
— Коль супруга сидя протягивает правую ногу, да коль ест хорошо каждую пищу — разрешится мальцом.
У Марии, кажись, всё сходилось по бабкиным приметам, но повитухам особой веры нет: мало ли чего напророчат. Уж тут, как Бог пошлёт, авось, и порадует наследником. Сын — божья благодать, да и то, как в народе говорят: «Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын». Славно бы так, лишь бы зачин сотворить, ибо Мария в добром здравии, родить и родить… Но кого ж ныне она принесёт? Господь милосердный, не оставь в своей милости жену мою Марию!
И час и два молится Иван Борисович, но мамка всё не идёт. Никак тяжело опрастывается супруга. Не вытерпел, осенил себя в последний раз крестным знамением и вышел в сени, ведущие на женскую половину хором. А тут и мамка торопко навстречу. У Ивана Борисовича сердце захолонуло, аж побледнел от грядущей вести.
— Всё, слава богу, мальцом разрешилась!
Запыхавшаяся старая мамка плюхнулась на лавку, а князь издал громозвучный ликующий возглас:
— Сын! Сы-ы-ын!
Счастью Ивана Борисовича не было предела.
Он бегом вбежал в покои, выхватил из рук повитухи наследника и расцеловал жену.
Нарекли сына Фёдором, в честь деда, почившего пять лет тому, так и не дождавшись внука.
После крещения и в первые именины сына Троекуров приглашал всю ярославскую знать, задавал роскошные пиры, потом их припоминали много лет.
Но вначале Мария Алексеевна со всем тщанием подбирала кормилицу, ибо от неё зависело здоровье сына. Остановилась на сенной девушке Алевтине и не прогадала — ибо Фёдор рос крепким, как на опаре взметался. Обличьем походил на отца: глаза карие, русым волосом кудреват, чему сильно радовался Иван Борисович:
— Растёт, растёт наследник! Видит Бог, в меня вымахает.
Иван Борисович «вымахал» едва ли не в сажень и, входя в покои, пригибал свою крутолобую кучерявую голову.
Когда Фёдору минуло пять лет, князь принялся готовить наследника к суровой жизни. Фёдор должен принять обряд «пострига» и «всажения на конь».
Перед «постригом» игумен Спасо-Преображенского монастыря, отслужив молебен в храме, взял острые ножницы, отхватил с головы княжича прядь русых волос, закатал в воск и передал на хранение княгине.
Прядь эту Мария Алексеевна будет беречь как зеницу ока в заветной драгоценной шкатулке, позади «благословенной родительской иконы».
Он же, пятилетний малец, уже мужчина! Теперь возьмут его с женской половины из-под опеки матери, от всех этих тётушек, мамушек, нянек и приживалок, и переведут на мужскую половину. И отныне у него будет свой конь и свой меч по его силам. И тугой лук сделают княжичу в рост, чтобы мог напрячь, и стрелы в колчане малиновом будут орлиным пером перенные… А там, глядишь, и за аз, буки посадят.
«Прощай, сыночек, — вздыхает Мария Алексеевна, — к другой ты матери отошёл, к державе!»
А сегодня — торжественный день, его справляют все знатные люди города. На дворе у княжеского терема многолюдно. Иван Борисович в окружении бояр, дворян, епископа, священников, знатных купцов и ближних слуг сидит в нарядном дубовом кресле и громко, возбуждённо глаголет:
— Был мне вещий сон, явился Георгий Победоносец, известив: «Быть твоему сыну зело мужественным и знатным ратоборцем, прославит он имя своё во благо великого государя». Тому, стало, и быть. Ныне добрый и памятный день настал для княжича. Кончилось его младенчество, и настал час рождения воина. Довольно Фёдору воспитываться в материнском тереме. Отныне я приставляю к нему дядьку-грамотея да искусного в битвах ратника. В добрый час, Фёдор Иванович!
Все приглашённые подняли чаши с вином, а стремянные повели коня по кругу.
Фёдор не испугался, не заревел. Ему понравилось сидеть на коне. Обойдя круг, стремянные попытались снять княжича с седла, но Фёдор заупрямился.
— Нет! Ещё хочу!
Иван Борисович одобрительно рассмеялся:
— Ай да сынок. А я что говорил? Пусть сидит, пока не устанет.
На третьем круге нежданно пересёк дорогу откуда только взявшийся чёрный кот. Конь взбрыкнул, и двор замер: ещё миг, другой — и княжич окажется на земле. Худая примета!
Но княжич, забыв про узду, весь подался вперёд, наклонился, обеими ручонками вцепился в шелковистую конскую гриву и вновь восторженно закричал:
— Ещё хочу, ещё!
— И впрямь отважным ратоборцем будет твой сын, князь, — молвил один из бояр.
— Непременно будет, — похвально молвил другой гость.
И был пир на весь мир!
Через три дня к Фёдору пришёл отец.
— Ну что, сынок, приспела пора к тебе дядьку приставить, учёбой заняться. Надеюсь, что лениться не будешь и станешь постигать науки с должным усердием.
— Буду стараться, тятенька.
— Крепко ли твоё слово?
— Крепко, тятенька.
Иван Борисович строго и пристально поглядел и произнёс:
— Запомни, сын, на всю жизнь: коль своему слову будешь нетвёрд, не видать тебе чести. Конь вырвется — догонишь, а несдержанного слова не воротишь. Мы с тобой как-то на торг наведывались. Зрел там купцов?
— Зрел, тятенька.
— Помнишь, как один другому руку протянул и сказал: «Даю слово купеческое».
— Помню, тятенька. А что сие значит?
— Купеческое слово — это как святая, незыблемая клятва. Её нарушение ведёт к несмываемому бесчестию и позору. Между боярами и князьями нет такой клятвы, но следовало бы и нам у купцов поучиться.
— Я всё понял, тятенька. Даю купеческое слово!
Троекуров потрепал широкопалой жёсткой рукой вихрастую голову сына.
Дядькой приставили к наследнику подьячего Тимофея Рыгоню с причудливой судьбой. Некогда служил он в Сыскном приказе Москвы и надерзил всесильному тестю царя Алексея Михайловича, боярину Илье Даниловичу Милославскому, когда тот зашёл в приказ и грубо попрекнул, что челобитная его лежит без движения.
— Аль не ведаешь, Тимошка, что мою челобитную надо немедля отправить сыскным людям. Неделю киснет! Ты для чего сюда назначен? Дурака валяешь, холопья душа!
— Ты, боярин, охолонь. У меня челобитными весь приказ забит. Не моя вина, что мужики валом бегут из вотчин и поместий от непосильной барщины и оброков. Задавили крестьян!
— Ты как, холопья душа, с государевым тестем разговариваешь? Ныне же царю доложу о твоём воровском свойстве*. Поганой метлой отсель вышибут! И боле ни в одном приказе служить не будешь.
— Высоко взлетел, Милославский, — не сдержался Рыгоня. — Может, и батогами прикажешь бить? Государеву сроднику всё можно.
— Вор! — зло воскликнул боярин и поспешил из приказа к монарху.
На другой день Тимофей Рыгоня и в самом деле оказался вне приказа. Тишайший**, выслушав отца царицы, предписал не допускать «вора» ни в один из сорока приказов, опричь того наказать десятью батогами на Ивановской площади Кремля.
Рыгоня после наказания помыкался-помыкался, да и снарядился в Ярославль к двоюродному брату, искать подходящее место для грамотея. И приглянулся Ивану Борисо-вичу!
— Как тебя по батюшке? — спросил он у Рыгони.
— Тимофей Потапыч, воевода.
— А как ты, Потапыч, грамоту постиг?
— От отца. Он в Посольском приказе вторым подьячим служил.
— Понятно. В Посольском приказе самые лучшие грамотеи… Скажи мне честно, Потапыч. Воровать будешь, коль я тебя к себе приказчиком возьму за моими тиунами приглядывать?
— Какой оклад положишь, князь?
— Такой же, как в своём приказе получал. А коль увижу, что честно служишь, на треть прибавлю.
— Коль слова твои, князь, не на ветер кинуты, полушки не сворую.
— Ну что ж, Потапыч. Поверю на слово. Завтра приходи в мои хоромы. Там обо всём и потолкуем.
Рыгоня не обманул. Через год, без увеличения оброка, доход Троекурова зримо вырос.
Тиуны приуныли: и до чего ж дотошный приказчик! Копейка сквозь его пальцы не проскочит. Норовили мзду сунуть, но он так отчитал, что хоть из вотчины беги.
Зато князь Троекуров остался доволен: и впрямь на треть повысил оклад Рыгоне. За год пригляделся к нему. Степенный, рассудливый, и супруге пришёлся по душе.
Не раз молвила:
— Доброго ты нашёл приказчика, Иван Борисович.
— Дай бог и впредь таким Потапычу быть…
Миновало два лета. Троекурову оставался ещё год быть воеводой Ярославля. Таково было решение государя. Иных он всего на один год в тот или иной город отправлял, других — на два, а вот его, свойственника царя, — на все три.
Молвил при назначении:
— Ты, князь, человек для Ярославля местный. Всех дворян и приказных людей отменно ведаешь. Город людный, третий на Руси. Дел всяких премного будет, но ты их одолеешь. Управляй с Богом.
— Благодарствую, великий государь.
В Москве воевод не было: там местными делами заведовали приказы. В другие города же обыкновенно посылался даже не один воевода, а со товарищи (вторые и третьи воеводы) или с дьяками и подьячими с «приписью»*.
В Ярославле Троекуров имел собственные хоромы, а второй и третий жили на Воеводском дворе. Присутственным местом была Съезжая, или Приказная, изба.
Князь Троекуров на воеводство не набивался, знал, что наживёт хлопот полон рот, но, коль царь назначил, будет он все дела выполнять с усердием. И выполнял!
Имел он государев наказ, в коем обусловливались все воеводские обязанности: набор войска, раздача денежного и хлебного жалованья, разверстание службы между служилыми людьми. Только бы это! Но ещё надлежало ловить воров, разбойников, преследовать беглых, принимать меры против пожаров, заразных болезней, запрещённых игр, непотребных зрелищ, кормчества**.
Опричь того, искоренять раскол, радеть, чтобы духовенство с тщанием исполняло свои обязанности, чтобы прихожане посещали церковь и говели в посты…
Но и это далеко не всё: воеводы были и судьями. В больших городах, как Ярославль, им надлежало выносить решения по гражданским делам до 500 рублей. Дела «разбойные, татебные и убийственные» относились к ведению губных старост, но и за ними воеводы должны были блюсти надзор. К тому ж с недавнего времени воеводы подчинили себе губные учреждения, наложили свою руку и на земское самоуправление. Однако же большинство воевод не имели права приговаривать к смертной казни, но всё же некоторым разрешалась и эта мера, например воеводам весьма отдалённых городов.
Прежний ярославский воевода, сродственник знатного боярина Голицына, был ссажен государем за «непотребные» дела. Он задерживал жалованье служилых людей, покровительствовал кормчеству, вступал в союзы с крупными ворами и разбойниками, брал непомерные поборы с тяглых людей.
Иван Борисович приношений не только не брал, но запретил это делать и приказным людям, хотя его запрет (в отсутствие воеводы) не соблюдался: не привыкли местные люди ходить в Съезжую с «нуждишкой» без приношений. А когда Троекуров был в присутственном месте, приношения подносили супругам приказных людей. Сломай-ка стародавний обычай!..
Когда Иван Борисович, полностью уверовав в порядочность Рыгони, предложил ему стать дядькой Фёдора, тот поначалу упирался:
— Ну какой, князь, из меня дядька? Я к своей работе привык. Всё прикидывать, записывать да тиунов в строгости держать. А тут дело новое — в учителях ходить.
— Ничего страшного. Фёдор у меня не забалованный. Справишься. Ты уж вними моей просьбе, Тимофей Потапыч, благодарен тебе буду.
— Добро, князь. Попробую, но, коль что не сладится, не серчай.
— Сладится, Тимофей Потапыч. Сладится.
Вначале стал Фёдор учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению Часовника, Псалтыря и Деяний святых апостолов. А на седьмом году начал обучаться письму, кое давалось ему весьма легко.
Иван Борисович удовлетворённо высказывал Рыгоне:
— Даровитый ты человек, Тимофей Потапыч. Фёдор-то как тебя полюбил…
Рыгоня степенно отвечал:
— Грамотей из Фёдора будет отменный. Но не одной наукой человек живёт. Хорошо бы ему почаще в руки лук с колчаном вкладывать и прочее оружие. Года быстро бегут, а время ныне смятенное.
— Добро, Тимофей Потапыч. Отныне Фёдор будет с Данилкой ратному делу обу-чаться.
Данилка Ветряк (так прозван за длинные, как крылья у мельницы, руки) был мечником-телохранителем князя и участвовал во всех его походах, связанных с тем или иным сражением или подавлением бунтов, коих через край хватало в царствование «тишайшего» Алексея Михайловича.
Глава 2
В Ростове Великом
После Соляного бунта Илейка Иванов бежал из Москвы. Несколько лет как один из заводчиков мятежа скрывался он от сыскных людей, бродяжил по Руси, пока не занесло его в Ростов Великий, где приютил его в своей курной избёнке бобыль Суботка.
Было погожее лето. Над улицами, переулками и чёрными тяглыми ростовскими слободами плыл благовест: храмы скликали прихожан к службе. Миряне снимали шапки, крестились, но в церкви валом не валили: не престольный праздник, да и денег на свечку нет. Найдутся медный грош да полушка, но святые отцы медь не берут, им серебро подавай. А где его набрать, коль царь день и ночь медную деньгу чеканит.
Тишь, покой, июньское солнце ласкает теплом землю. Пряный благовонный воздух дурманит голову.
— Эка благодать, — довольно бормочет, греясь на завалинке, Суботка Овсяник.
Сидит, жуёт чёрствую корочку, поглядывает на снующий по улочке люд. Вот и ему пора за посошок браться. Ноги едва ходят, и грудная жаба начала порой наваливаться, но надо идти: сума оскудела, паперть ждёт. Правда, на подаяния надежда худая: вконец обнищал народ. Голод по избам ходит, мирян кручинит. Веселье как языком слизало. Зол, смур народ. Голод не тётка, пирожка не подсунет. Э-хе-хе.
Вздохнул Суботка, осенил узкий морщинистый лоб двумя перстами и тотчас услышал угрозливый возглас:
— Кнутом сечь нещадно!
Овсяник вздрогнул, с завалинки поднялся. Перед ним детина в тёмно-зелёном кафтане, шапка надвинута на самый нос.
— Прости, Христа ради... Бес попутал, — оробело произнёс Овсяник.
— Не прощу! Ни царя, ни патриарха не чтишь. А они что повелели? — детина соединил три пальца воедино и вскинул щепоть над головой. — Трёхперстно креститься! Ослушников бить кнутом, сажать на цепь и предавать анафеме. Айда к владыке.
— Помилуй! Бес попутал.
Суботка не на шутку перепугался: ростовский митрополит Иона Сысоевич строг. Упаси бог угодить на Владычный двор!
Детина сдвинул шапку на затылок, рассмеялся:
— Что, брат, душа в пятки ушла? Неча тогда старой веры держаться. Старообрядцы ни огня, ни кнута не боятся.
— Илейка! — ахнул Овсяник. — Не признал тебя. Ну, скоморох!.. Да ты, я вижу, крепко навеселе.
Ни ветерка. Всё замерло, застыло, а солнце знай жару поддаёт.
Илейка расстегнул кафтан, пошатнулся.
— Никак, разморило, детинушка? Ступай в сенцы, полежи маленько.
— Добро, — кивнул Илейка.
В сенцах бросил на пол кафтан, лёг, сунув шапку под голову, и тотчас провалился в мертвецкий сон.
Суботка кинул на плечо отощалую суму, воровато окстился двумя перстами и побрёл на паперть.
На другой день Илейка отправился в город.
На площади гудел торг. Отовсюду неслись громкие зазывные выкрики. Торговали все: кузнецы, бронники, кожевники, гончары, огородники, стрельцы, монахи, крестьяне... Тут же сновали объезжие головы, приставы и земские ярыжки, цирюльники и походячие торговцы с лотками и коробьями.
Один купец торговал солью, но к нему подходили редко, ибо соль ростовцы берегли, дорога, хотя солеварни были неподалёку от города — в Варницкой слободе. Правда, соляников становилось всё меньше и меньше. Слободу обжили мясники и сыромятники, овчинники и свечники. Солеварни же всё больше хирели: оскудели соляные промыслы, да и с дровами стало туго — леса вокруг Варницкой слободы повырублены.
В Калашном ряду на Илейку вдруг навалился неказистый пожилой мужичонка в
долгополом азяме. Илейка повёл дюжим плечом. Мужичонка слабо охнул и рухнул наземь.
«Никак перебрал», — подумалось Илейке. Хотел было идти дальше, но мужичонка тихо, просяще молвил:
— Подними меня, мил человек.
— Сам встанешь,— буркнул Илейка.
— Сил нет... Подними.
Мужичок тяжело дышал, кумачом горело лицо. Илейка рывком поднял питуха, но того не держали ноги.
— Да стой ты, дьявол! Эк, налакался. Как звать?
— Михеич… Не пью я... Хворь одолела, никак помираю. Мне бы ведунью-знахарку. Помоги, мил человек.
— Повезло же тебе. В избе, где я на постой остановился, ведунья навестила хозяина. Дальняя родня. Пришла с травами и кореньями Суботку подлечить. Правда, далече это.
Илейка малость постоял столбом, а затем вскинул мужичка на плечо и понёс к Конской площадке. Сзади услышал:
— Силён, детинушка.
Конская площадка — неподалёку от Мясного ряда, возле подворья Борисоглебского монастыря. Здесь с давних времён торговали житом. Тут же стояла Конская изба. Сидели в ней двое подьячих и собирали «лошадиную» пошлину: привёз мужик товар на лошади — плати алтын. Здесь же сновали бойкие извозчики, кричали:
— Садись, православные! Кому во Ржищи?
— К Княгининскому монастырю!
— На Чудской конец!
Не простаивал извоз! Кто кадушки просил отвезти, кто бочонок солёной рыбы, кто, из богатеев, пудишка два соли. Но каждый ямщик знал свой извоз. На чужую улицу — упаси бог! Налетят удальцы с топорами, разобьют в щепы повозку, а самого кнутом попотчуют. Не лезь, нахалюга, в неположенное место, чужого не хватай!
— В Сокольничью слободку!— крикнул Илейка, и тотчас к нему подкатил долговязый извозчик верхом на гривастом чало-пегом коне. Илейка положил мужичка на телегу, сам сел обок.
— Гони! Кажись, помирает.
Извозчик перекрестился, дёрнул повод, сказав:
— Ничо, Бог милостив... По-шел! Рви кочки, ровняй бугры, держи хвост козырем!
У извозчика лицо сдобное, весёлое, никак хватил чарочку. Въехал в Ладанную слободку, увидел знакомого дьячка, распялил в ухмылке крупный губастый рот.
— Здрав будь, Филимон!.. Чего очи долу? Ну, чисто ангел. Намедни Дунька тя хватилась. Люб ты ей, хо! Баяла, такого жеребца век не видела. Истомилась, отче!
— Прокляну, сатана! — рявкнул дьячок и заспешил к торговым рядам.
Извозчик хохотнул и поехал к воротам деревянной крепости.
Крепость — на земляном валу. Дубовые брёвна почернели от ветхости, ров осыпался и обмелел; кое-где тын зиял саженными проломами; осела, накренилась башня с воротами.
Скатились с холма, миновали Заровье и повернули к Сокольничьей слободке. Илейка уже слышал: слободка эта для ростовцев — бельмо на глазу. Засели в ней сокольи помытчики, кои, «овладев насильно чужими дворами и огородами, ни тягот не тянули, ни служб не служили». Помытчики — люди особые, государем чтимые.
Царь Алексей Михайлович, страстный любитель соколиной охоты, указал: помытчикам тягла не нести. Однако повелел поставлять на государев двор соколов и кречетов. Дело тяжкое, хлопотное. Приходилось ловить птицу на Крайнем Севере, мысе Канин Нос, берегах Печоры, в землях сибирских. Много лет не знали покоя ростовские помытчики. Вздохнули, когда приехал в слободку дьяк Митрофан Никифоров и молвил:
— Царёва казна оскудела. Отныне соколов не имать. Государю на войну деньги надобны.
За Сокольничью слободку велено платить оброк всему посаду. Ростовцы было взроптали, но бушевали недолго: воевода напустил на смутьянов земских ярыжек и стрельцов: кое-кого поволокли на Торговую площадь, кат поусердствовал кнутом. Посад угомонился.
Мужичок, скрючившись, лежал на телеге и тихо стонал. Продолговатое, морщинистое лицо его в каплях пота, глаза закрыты.
Илейка, привалившись к передку повозки, дремал. Голова чадная, свинцовая.
Будто из-под земли раздался голос извозчика:
— Куда править, люди христовы?
Илейка широко зевнул и отозвался.
— К Суботке Овсянику, — и указал рукой на курную избёнку.
Сошёл с телеги, рассчитался с извозчиком и понёс мужичонку к избе. Там положил Михеича на лавку. В избушке полумрак: маленькие оконца, затянутые бычьими пузырями, скудно пропускают свет. На полатях похрапывала старушка-знахарка.
— Фетинья! Хворого к тебе привёз.
Знахарка сползла с полатей, запалила от лампадки свечу, присела к Михеичу, сердобольно молвила:
— Чую, худо тебе... А ты потерпи, потерпи, родимый. Избавлю от недуга.
— Не, бабка... Не поможет. Никак отжил своё, — едва слышно отозвался Михеич.
Илейка вышел из избы.
Михеич тихо стонал, метался. Худое лицо горело кумачом. Из дряблого щербатого рта нет-нет и выплеснется:
— Помираю... Огневица скрутила. Кличь попа.
— И не подумаю, касатик. Потерпи. Зришь скляницу? То настой целебный.
Голос знахарки ласковый, убаюкивающий. Михеич закрыл глаза и забылся.
Ведунья тихо шептала заговор, а думала о своей покойной матери. Сколь она людей спасла от хворей и напастей. Пользовала настоями и отварами, читала заклинанья. И огневицу-лихоманку отводила. Как-то сама видела — хворого отца пользовала не только отварами, но и окуривала засушенной лягушкой... Может, и ей на пруд сходить?
Спрятала выбившуюся седую прядь волос под платок — и за порог. В сенцах (дверь на улицу распахнута настежь) невольно остановилась. Вот здоровьем-то кого Бог не
обидел!
Илейка раскинулся прямо на полу, лежал кверху лицом и тихо похрапывал. Чернокудрый, с коротко постриженной бородкой. Лицо сухое, крупнорубленое. Распахнутый ворот рубахи обнажал крепкую тугую шею. Мерно вздымалась литая широкая грудь.
Проснулся в сумерки. Старая избёнка скрипела, дрожала, ухала. В сенцы бил буйный неистовый ветер. Зловеще и оглушительно громыхнуло.
«Эк гроза разбушевалась. Не зря в полдень душно было. Ну и ветрище, ну и гром».
Избёнка, казалось, вот-вот развалится. А тут ещё и обломный напористый дождь обрушился. Избёнка и вовсе жалобно закрякала.
В горле пересохло. Илейка нащупал железную скобу, распахнул дверь и ввалился в избу. Дрожит, мигая чадным огоньком, лампадка перед закоптелым образом Спаса. Горит, потрескивает лучина в светце; красные угольки, отрываясь, падают в лохань с водой, шипят и дымятся.
На лавке бредит Михеич. Суботка лежит на полатях, крестится, бормочет молитву:
— Спаси и сохрани, пресвята Богородица...
Фетинья, в тёмном крестьянском зипуне и чёрном платке, склонилась над чашей. Лицо строгое, иконописное.
Илейка шагнул к кадке, зачерпнул ковш воды. Ведунья не шелохнулась, глаза её неподвижны и отчуждённы. Руки колдовскими кругами заходили над чашей. Из дряблого рта истово донеслось:
— Изыдьте, дьявол, бесы и все силы нечистые. Изыдьте в ад кромешный! Не одолеть вам животворящего креста... Провалиться вам в преисподню, гореть в геенне огненной. Изыдьте!.
Глаза ведуньи стали огненно-ярыми, руки всё быстрее и быстрее заходили над чашей. По бревенчатым стенам плясали причудливые тени.
«Ведьма», — невольно подумалось Илейке. Он сел на порог и молчаливо застыл, глядя на знахарку.
Фетинья ещё долго читала заговор, а затем поднялась и понесла чашу к Михеичу. Тот лежал на спине, свалявшаяся клинообразная борода его вздрагивала. Знахарка по пояс оголила хворобого и вывалила из чаши на его плоскую худосочную грудь землистую бородавчатую жабу.
Илейка охнул, перекрестился. Тьфу! Экое страшилище на Михеича посадила.
— В уме ли ты, Фетинья? Скинь!
Ведунья полыхнула колдовскими глазами, молвила в сердцах:
— Не мешай!
— Глядеть тошно! — недовольно бросил Илейка и пошёл в сенцы. Забормотал:
— И впрямь ведьма. Глаза как у дьяволицы.
Илейка вернулся в сени, хотел выйти на крыльцо, но тотчас в лицо ударил хлёсткий косой дождь. Илейка попятился в сени. Постукивая посошком, в сенцы выбрался и Суботка.
— Экое непогодье, прости господи, — сказал он. — Жуть! Собрался-то куда?
— Припозднился я у тебя, Суботка.
— Куда идти надумал, детинушка? Христос с тобой! Глянь, что деется. Да и час неурочный. Улицы колодами и решётками загорожены. Идём-ка на полати.
— Нет уж! Сам с ведьмой ночуй! Тьфу!.. В сенях лягу.
— Воля твоя, детинушка.
Вскоре гроза угомонилась, дождь перестал поливать город, наступила ночь.
Но Илейке уже не спалось. С улицы раздались цокот копыт, невнятный говор всад-ников.
Никак стрельцы... Город досматривают. Давай, давай, служивые. Ныне время лихое, голодное, разбойный люд не дремлет. Держись, дворяне и купчишки! Вот и Иван Троекуров ныне крепко стережётся. Неделю назад набежали на его Бурмакинскую вотчину тати, караульных людей повязали, из амбара хлеб вымели. Боярин ни свет ни заря в Губную избу помчал: «Дай пристава со стрельцами!» Да куда там: у губного старосты сыскных людей не осталось. Кто беглых мужиков ловит, кто лихих людей. Русь велика. Пришлось Троекурову своих послужильцев с самопалами рассылать, но татей и след простыл.
Илейке вспомнилась шумная, дерзкая Москва. Бунт. Через Варварские ворота Китай-города тысячные толпы ринулись в Белый город к государеву Соляному двору, что за высоким дубовым тыном. Десяток стрельцов с бердышами. Глаза настороженные, напуганные. «Сомнут, робяты. Уйдём от греха». Стрельцы — за ворота.
Толпа осадила двор:
— Высаживай дверь, посадские! Добудем соль!
— Круши! Добудем!
По воротам забухали увесистые топоры.
— А ну стой!.. Стой, сказываю!
Голос зычный, властный. В клокочущем многолюдье всадник в нарядном кафтане. Признали — князь Троекуров, один из приближённых царя. Крепкотелый, осанистый.
Остановил, вздыбил коня. Поднял руку с кручёной ремённой плетью.
— Одумайтесь, люди! Послан к вам царём Алексеем Михайловичем. Великий государь повелел не чинить разбой. Ступайте по домам!
Толпа недобро загомонила:
— И не подумаем! С голоду дохнем!
— Добудем соль!
Троекуров вновь поднял руку:
— Разбоем дела не вершат! Царь накажет виновных и даст народу послабленье. Царь милостив. Не гневите Бога!
К боярину протолкался Дениска, горячо, бунташно молвил:
— Буде, князь, сказками потчевать. Сыты! Царские милости в боярское решето сеются. Не было и не будет боярам веры!
— На плаху захотел, вор! — рыкнул на Дениску князь и взмахнул плетью.
Дениска перехватил его руку, выдернул плеть и переломил через колено кнутовище. Князь вспыхнул, тёмные глаза налились гневом. Подлый человечишка, смерд! Смять, разбить наглое лицо!
Горячий, необузданный, выдернул ногу из серебряного стремени, но вовремя сдержался: толпа, выплёскивая злобные выкрики, угрожающе смыкалась. На куски раздерут!
Троекуров развернул коня и — вон из толпы.
В бегах Дениска сменил имя. Довелось бродяжить вместе с холопом дворянина Измайлова — Илейкой Ивановым. Холоп перед кончиной господина получил вольную.
— Зверь зверем дворянин был, — рассказывал Илейка. — Не единожды кнутом потчевал, девок портил. Грешник великий! Вот его Господь и наказал тяжкой хворобой. И поделом. Всё на свете по грехам нашим даётся. Перед смертным часом надумал дворянин душу спасти. Собрал дворовых, на колени пал: простите, Христа ради! И всем вольную дал.
Илейка показал грамотку и невесело продолжал:
— Вышел на волю, мекал — теперь заживу, о кнуте господском забуду. Да не тут-то было. Волюшка-то при деньгах хороша. У меня ж ни хлеба в суме, ни гроша в котоме. Всей одёжи — дырява шапка да онучи. Пришлось вновь богатеям кланяться. И к кому токмо не подряжался, дабы корку хлеба пожевать! И в судовых казаках ходил, и на соляных варницах чад глотал, и на земляных работах горбатился. Хлебушек даром не даётся...
Как-то шли к Нижнему Новгороду. Глухой осенью заночевали в одной из лесных деревушек. Хозяин положил на сеновал. У Илейки среди ночи скрутило живот, полез на ощупь к лесенке, оступился и рухнул вниз, напоровшись горлом на вилы. Осталось после Илейки три алтына да грамотка.
Так Дениска Косарев стал Илейкой Ивановым. После Соляного бунта Дениску повсюду искали государевы сыщики.
«Глядишь, и поможет грамотка, — размышлял он. — Лишь бы к новому имени привыкнуть».
Привык, сроднился, будто никогда и не звался Дениской. Правда, долго не могла привыкнуть жена Ирина, с которой бежал из Москвы.
— Грешно, Деня, — шептала по ночам, прижимаясь к мужу. — Бог не простит. Негоже чужое имя носить. Ты, чай, не Гришка Расстрига. Грешно!
— Без греха веку не изживёшь. И в голове не держи! Сама ведаешь: коли что — ждёт меня плаха. На мне кровь начальника Земского приказа Лёвоньки Плещеева... И не токмо его. Навсегда имечко забудь. Ты ж у меня разумная.
Ирина его настоящим именем лишь перед чумной смертью в бреду обмолвилась. Ласковая, добрая была жёнка. Отец её любил... Отец! Бронник чёрной Сретенской слободы. Оружейный мастер. Знатно ковал сабли и копья, плёл кольчуги. Старого кузнеца Платона знал весь московский мастеровой люд. Умелец от Бога. Вот и сына своего ремеслу научил. Да и как Дениске отцовское ремесло не перенять, коль сызмальства в кузне торчал. В восемнадцать лет мало уже в чём уступал старому Платону.
«Эх, батя, батя. Жив ли? Чует сердце: подле матери на погосте лежишь. Могилы заброшены, заросли бурьяном».
И заныла, заскорбела душа. Вот где грех! Немало лет минуло, а сын отца с матерью не проведал, у могилок не посидел. И нет тому оправданья. Господь не простит... А может, и смилостивится? Москву проведать — голову на плаху положить. Никак (никак!) не забыли его дьяки Разбойного приказа, Дениску Косарева, одного из заводчиков Соляного бунта. Ох и погуляли же кистеньки и дубинки по царёвым своякам и сродникам! Растерзали ненавистных всей Москве думного дьяка Посольского приказа Назария Чистого и земского судью Левонтия Плещеева, на Красной площади казнили начальника Пушкарского приказа Петра Траханиотова... Надолго запомнят царь и бояре Соляной бунт.
Нет, никак нельзя было показаться в Москве. А так хотелось побывать на родной Сретенке, в избёнке, что неподалёку от храма Сергия. Пройтись бы сейчас по слободе, потолковать с прежними дружками, посидеть в отцовской кузне.
Ремесленная Москва! Город кузнецов, литцов и оружейников, кожевников, кадашей и хамовников... Москва трудников и чудодеев-мастеров. Хоть бы глазком глянуть на Белокаменную.
Тянет, ох как тянет Илейку в Москву!
Глава 3
Москва боярская
Чёрная смерть пришла на Русь весной 1654 года и пошла люто косить, не разбирая ни мужика, ни попа, ни бояринa. То был страшный год.
Алексей Михайлович был с ратью в Смоленске. Прослышав о моровой язве, спешно снарядил к патриарху гонца, прося вывезти царскую семью из столицы. Было это в самом начале морового поветрия. Никон удалился с царицей и её домочадцами на реку Нерль.
Царь Алексей Михайлович, дабы обезопасить себя и войско, указал поставить крепкие заставы по Смоленской, Троицкой, Владимирской, Ярославской и другим дорогам. Всякий въезд в Москву был запрещён. В столице же принимались от чёрной смерти крутые меры. Во дворце, государевых мастерских и на казённом дворе, «чтобы ветер не проходил», окна и двери закладывали кирпичом и замазывали глиной. Заражённые же моровой язвой палаты, хоромы и избы окружали надёжной стражей с приказом: никого из уцелевших людей не выпускать.
Все ворота Кремля были заперты, решётки спущены, и только одна калитка с выходом на Боровицкий мост оставалась днём открытой.
На погостах не осталось мест для захоронения умерших. И тогда вокруг Москвы в полях были вырыты огромные ямы, куда сбрасывали трупы без всяких домовин.
Чёрная смерть распространилась по всей державе. Царь приказал умножить караулы. Все монастыри, посады и дороги были заняты многочисленными заставами. Теперь уже не только перед Москвой, но всюду стража хватала тех, кто пытался пройти мимо, и «тут же у застав бросала в костёр вместе со всем, что было при них, — повозкой, седлом, уздечкой...».
Тогда-то и порешил Илейка идти в Белокаменную, спасать отца от неминучей смерти. Оставив жену в одной из деревушек, зашагал к Москве. Впереди тянулись торговые обозы из Вологды, но в верстах двадцати от столицы путь преградила стрелецкая застава.
— Поворачивай! — грозно закричали служилые. — На Москве чёрная смерть.
Купцы загалдели, забранились:
— Идти вспять — великие убытки терпеть. Из Вологды лён, пеньку, кожи да заморские товары везём. Пропущай, служилые!
— И не подумаем. Поворачивай, а не то из пищалей перебьём!
Купцы — народ тёртый, настырный — норовили всучить мзду, но стрельцы, хоть и были в вечной нужде, от посула отказались. Знай горланят:
— По всей Руси чёрная смерть, а вы со своим товаром, дурни! Осади!
Тяжелогруженые телеги повернули вспять. Зашагал за обозом и Илейка, но вскоре свернул с дороги, надумав обойти заставу лесом. Но лес был настолько непролазным, что пришлось идти не вдоль большака, а дать спорый крюк. И тут он наткнулся на просёлочную дорогу, по которой двигался торговый обоз.
«Ну и купцы, — усмехнулся Илейка. — Ни чёрт, ни дьявол, ни моровая язва их не пугают. Один барыш на уме».
— И ты в обход? — крикнул с подводы один из торговцев.
— А куды денешься? Но мне терять особо нечего. Вы же рискуете. Глянь, сколь товару закупили. Ехали бы домой.
— Купеческого дела не ведаешь, — сердито отмахнулся приземистый, лобастный торговец с каштановой бородой. — Купить, что вошь убить, а продать, что блоху поймать. Вся надежда на Москву.
— Истинно, — вторил лобастому другой торговец. — Москва — не Вологда, на любой товар прожорлива. Стольный град! Иноземцем полнёхонька. Лишь бы на торги попасть. Купец, что стрелец: попал, так с полем, а не попал, так заряд пропал. Вот так-то, милок.
Но и обходная просёлочная дорога не оказалась безопасной. Неведомо откуда высыпали стрельцы и всех взяли в полон: купцов, Илейку, подводы с возницами и лошадьми.
— Помышляли обхитрить, недоумки! Царёв указ рушить!
Стрельцы были злы и решительны. Привели к костерищам. В огонь полетели телеги, лён, пенька, липовые кадушки с мёдом... Купцы рухнули на колени, взмолились:
— Пощади, служилые!
Стрельцы не пощадили, принялись связывать людей.
Богатыристый Илейка, растолкав стрельцов, кинулся в лес. Бухнул выстрел, но свинцовый заряд лишь просёк ворот кафтана. Глухой лес надёжно укрыл беглеца.
Служилые преследовать не стали: и без того работы хватает. Людей, вкупе с лошадьми, жгли на костре. То была жуткая картина. Долго ещё слышал Илейка душераздирающие вопли. Так в Москву и не попал.
Русь сковал страх. Православный народ предвещал скорый конец света, связывая его с «антихристом» Никоном. Назревал Чумной бунт.
25 августа 1654 года подле Успенского собора сошлась большая толпа москвитян.
— Чёрную смерть Бог послал из-за новин Никона. За грехи антихриста погибаем!
— Мы тут в землю ложимся, а Никон из Москвы убёг и спрятался. Рази так патриарху можно?!
— Вкупе с ним и другие попы бежали. Ныне православные помирают без покаяния и причастия, мёртвых погребать некому.
— Святотатство!
Масла в огонь подлил тяглец новгородской сотни. В руках его была икона Неруко-творного Спаса.
— Глянь, православные! Лицо соскребено, глаза выколоты. Ворвались в избу патриаршие стрельцы и образ испоганили. Де, икона не так писана, по патриаршему указу её надо сжечь. Образ Спаса кинули в Тиунской избе. Я на колени пал. Верните, Христа ради! Вернули, но велели икону переписать. Я ж Спасителя на место поставил, и было мне ночью от образа видение. Повелел Спаситель показать сей образ мирским людям, дабы те за такое поругание правдой стояли.
— И будем стоять! — дерзко отозвалась толпа. — Во всём виноват патриарх. Никон — иконоборец! Держит подле себя старца еретика Арсения, коему дал волю править божественные книги. И тот их столь перепортил, что службы по ним приведут Русь к погибели. Буде терпеть святотатцев!
Толпа остервенела. И было отчего: разорительная война, многочисленные пошлины и подати, голод, мздоимство бояр и приказных людей, неправедные суды, «антихристовы новины», моровая язва и медные деньги привели людей к бунту.
На великий шум москвитян из Успенского собора вышел князь Михайла Пронский, оставленный царём дозирать стольный град.
— Уймитесь, православные! Святейший патриарх пошёл из Москвы не по своей воле, а по государеву указу, дабы царскую семью спасти. Уймитесь!
Но гнев москвитян было унять тяжко. На другой день они пришли к Красному крыльцу царского дворца с обезображенными иконами и закричали пуще прежнего:
— На Москве великая беда, а патриарх от народа и святынь убежал. Не было ему государева указа!
— Бить справщиков книг!
— Бить иконоборцев!
— Зорить и крушить еретиков!
На Москве начались погромы. А моровая язва всё пожирала и пожирала людей.
Чёрная смерть отступила, но пришла беда иная.
Илейка добрался до Москвы и зашагал в Белый город к Лубяному торгу, неподалёку от которого, за Трубой, и проживал когда-то Кузьма Ногаев. Встречу попадались посадчане с хмурыми лицами.
Угрюма ныне Москва, подметил Илейка. Не от доброй жизни. Слободы стонут от царских податей-налогов, а пуще всего от медных денег, доведших простолюдинов до небывалого голода. Вот и на Лубяном торге зло галдят:
— Будь прокляты эти медные деньги!
— Цены не имеют. Куска хлеба не купишь. С голода подохнем!
— То лишь боярам да крючкам приказным на руку! Не пора ли тряхнуть богатеев!
Илейка жадно впитывал в себя каждое слово. Дерзкая ныне Москва, угрозливая, того и гляди бунт полыхнёт.
Сам же Лубяной торг захирел. Он размещался между Петровскими воротами и рекой Неглинной. Здесь продавали церкви-обыденки и готовые срубы домов. При частых на Москве пожарах погорельцы покупали сруб, перевозили его к себе во двор и в два-три дня складывали избу. Но ныне на Лубяном торге не было обычного многолюдья: торговые люди, промышлявшие срубами и обыденками, не продавали за медные деньги.
«И зачем понадобилось царю вводить медяки? — недоумевал Илейка. — От них проку, как слепому свеча. Вся Русь от недовольства гудит».
Знать бы царю и боярам, чем их затея обернётся.
Два первых года тридцатилетней войны с Речью Посполитой и Швецией были самыми блестящими для царя Алексея Михайловича. Взяты Дорогобуж, Невель, Рославль, Орш, Гомель, Могилёв, Полоцк, Гродно, Вильно... Молодой царь, окрылённый успехами, мечтал о славе Александра Македонского. Но вскоре начались неудачи. Война приняла затяжной, изнурительный характер. Русь, едва оправившись от Смутного времени, не могла уже уповать на всё новые и новые победы. Большая война требовала большой казны, но она была разорена.
Царь увеличивает пошлины и подати, но денег всё равно не хватает.
— Думайте! — повелел Алексей Михайлович своему окружению. — Без казны нет царства.
В мае 1654 года окольничий Фёдор Ртищев, начальник Посольского приказа Афанасий Ордин-Нащёкин и патриарх Никон посоветовали царю ввести медные деньги. Алексей Михайлович принял совет с восторгом.
— Держава спасена! — воскликнул он.
Опустошённая серебряная казна должна замениться медной. На Денежный двор доставили спешный указ: из десяти тысяч пудов меди чеканить полтинники, полуполтинники, алтынники и гривенники. Из одного фунта меди (он стоил на рынке 12 копеек) выходило 10 рублей, причём рубль приравнивался к серебряному.
Первые месяцы новые деньги имели успех, но царь приказал выпускать их всё больше и больше. Тогда же в огромном количестве появились и фальшивые «воровские» деньги.
Мастера по чеканке монет, серебряники, котельщики и другие, кои жили раньше скудно, вдруг быстро разбогатели, понастроили каменные дома, платье себе и жёнам поделали по боярскому обычаю, в рядах всякие товары, сосуды серебряные и съестные запасы начали покупать дорогою ценой, не жалея денег.
При сыске оказалось, что они в подпольях и погребах своих «тайным обычаем» чеканили воровские деньги. Преступников хватали, кидали в застенки, пытали, жестоко казнили, отсекали руки, прибивая их на стенах у Денежного двора, вливали в горло раскалённое олово, а дома и пожитки отбирали в казну. Но чеканка поддельной монеты не прекращалась: уж слишком была заманчива возможность скорого обогащения.
Раздражённый царь приказал учитывать каждый фунт меди. К Денежному двору, связанные крестным целованием, были приставлены «верные головы», избранные из честных и зажиточных людей. Эти-де воровать не будут: праведные и живут в достатке. Но и праведные головы не устояли перед искушением и наряду с царской медью приказывали чеканить деньги из собственной меди и отвозить себе домой.
«Искусил бес» и государева тестя, боярина Илью Даниловича Милославского, — начеканил он для себя поддельных денег на 120 тысяч рублей!
Царь изведал о новых преступлениях от стрельцов, державших стражу на Денежном дворе, и повелел учинить крепкий сыск. Виновные, истязаемые на дыбе, показали, что они откупались от наказания, давая посулы* боярину Милославскому, а также царскому свойственнику Матюшкину, за коим была родная тётка царя по матери, и приказным дьякам и подьячим.
Преступникам отсекли по руке и ноге и сослали в дальние города. Афанасия же Матюшкина лишили думного чина и выгнали из стольников. А царёв тесть Милославский не понёс даже малейшего наказания: «царь был только разгневан на него».
Медные деньги, заполонившие Русь, быстро обесценились. Пятнадцать медных рублей приравнивались всего лишь к одному серебряному.
Начался небывалый голод. Крестьяне отказывались продавать съестные припасы за медяки и не везли хлеб на городские рынки. Выборные чёрных сотен и слобод завали-
ли царя челобитными: «Великая нищета и гибель чинится хлебной цене и во всех хар-
чах дороговь великая, а та чинится дороговь от воровских и медных денег... и мы, чер-
нослободцы, от такой хлебной и всякой дороговизны и от медной деньги вконец оску-дели».
Туго пришлось и ратным людям, застрявшим на Украине и в Белой Руси. Местное население наотрез отказывалось продавать товары на медные деньги. В войсках начались волнения. Полки таяли, рассыпались, дворяне убегали в свои поместья. К маю 1662 года назрела угроза всеобщего военного бунта.
Царь Алексей мечется: близки к мятежу не только крестьяне и чёрные люди городов, но и служилые. Дни и ночи советуется государь с думными людьми. Вскоре выходит ещё более суровый сыскной указ о поддельщиках воровских денег. Сыск велено учинить... тестю царя Илье Милославскому, ведавшему приказами Большой казны, Стрелецким, Рейтарским, Иноземным и Аптекарским. Русь ахнула: алтынного вора вешают, полтинного чествуют. Вот уж впрямь — рука руку моет. Другим указом царь повелел собирать все налоги лишь серебряными деньгами. А вскоре была объявлена новая подать — «пятая деньга» с торгов и промыслов.
Народ вознегодовал с новой силой. В Москве на всех улицах, крестцах и площадях зло шумели:
— Буде в смирении подыхать. Терпя и камень треснет! Надо громить дворы боярина Милославского и гостя-купца Васьки Шорина, коему велено из нас пятую деньгу выколачивать. Буде им на нас наживаться!
— И не токмо их громить! Бояр и приказных тож! Все они воруют.
Шумная, угрозливая была Москва накануне Медного бунта…
Илейка ведал: стрелец Кузьма Ногаев живёт за Трубой, что подле реки Неглинной. В стене Белого города, в глухой башне, было отверстие, перегороженное железной решёткой. Через отверстие протекает Неглинная. Само же отверстие имело в ширину около двух с половин сажен и называлось Трубой. Рядом была церковь Сергия, «что на Трубе», а на горе стоял Рождественский женский монастырь, основанный ещё в 1386 году. Между Рождественкой и Неглинным проездом тянулись монастырские ограды.
Илейка зашагал к Трубе. У Рождественки едва не столкнулся с двумя черницами. Те, как и положено при встрече с мужчиной, опустив очи долу, степенно пошли дальше, а к Илейке подскочил молодой разбитной парень в синей поддёвке.
— Зрел тебя на Лубяном торгу. По одёже — сын боярский. Стоял молчком, никак приценивался. Сруб или церковь-обыденку изволишь? Айда назад, уступим! Артель велела догнать. Втридёшево отдадим и сами привезём, но за серебро.
Илейка и впрямь походил на сына боярского: в добром мухояровом* кафтане с алым козырем, шитым золотной вязью, на голове летний колпак из белого атласа с узорами, на ногах мягкие белые сапоги из юфти с серебряными подковками.
— Напрасно догнал, паря. Не надо мне ни избы, ни церкви.
— Жаль, — опечалился парень. — Никакого торгу.
Но вот за Трубой и изба стрельца Кузьмы Ногаева. Надо же — жива, не сгорела. Всё тот же огородик, банька, колодец с журавлём. Но жив ли сам хозяин?
Постучал в дверь.
— Кого Бог несёт? — ворчливо донеслось из избы.
Жив! Всё тот же густой, звучный голос. Жив Кузьма Ногаев!
Илейка вошёл в избу, снял колпак, перекрестился на икону Николая Чудотворца, поясно поклонился.
— Здорово жили, Кузьма Силыч.
Крепкий широкогрудый стрелец поднялся с лавки.
— И тебе доброго здоровья... Что-то не признаю.
— Да и тебя, Кузьма Силыч, не шибко признаешь. Ране-то кудреват был, как баран, и борода без сединки. А ныне лыс и сед и лоб морщинист. Уходили бурку крутые горки.
— Годы, что горе — бороздки прокладывают... Какая нужда привела?
— Так и не признаёшь?
На улице хоть и солнышко играет, но в избе с оконцами из бычьих пузырей не так уж и светло. Кузьма запалил свечу от негасимой лампадки, шагнул с подсвечником к Илейке. Долго и зорко вглядывался, а затем поставил подсвечник на стол и развёл руками.
— Не признаю,
— Огорчил ты меня, Кузьма Силыч, — крутанул головой Илейка. — Ужель я так состарился?
Кузьма вновь пожал плечами и указал гостю на красное место.
— Вижу, один в избе? — спросил Илейка.
— Один. Матрёну свою на торг с огурцами послал. А проку? Ныне с огурца пятую деньгу отдай, да и на серебро никто не покупает, — удручённо проронил стрелец,
продолжая пытливо вглядываться в нарядно одетого незнакомца. Кто он, этот высо-
кий, матёрый, лет тридцати мужчина с чёрной волнистой копной волос, с такой же волнистой бородкой. На столе покоились тяжёлые крепкие руки с жёсткими, грубыми пальцами.
«По одежде из господ, а вот руки мужичьи», — подумалось стрельцу.
Илейка не стал петлять вокруг:
— Кузнеца Платона Косарева ведал?
— Платона? — протянул Кузьма.
Сидел он на лавке в одной рубахе. Стрелецкая же справа: кафтан, сабля, бердыш, берендейка* — висела на крючьях-колках.
Кузьма Ногаев был явно озадачен: почему пришлец вдруг вспомнил Платона Коса-рева, чей сын когда-то был одним из заводчиков Соляного бунта, государевым преступником.
Илейка, видя замешательство стрельца, скупо улыбнулся:
— Да ты не опасайся, Кузьма Силыч... Может, и Дениску Косарева ведаешь?
У Кузьмы дрогнуло веко, глаза изумлённо расширились.
— Дениска, — глухо и возбуждённо выдохнул он. — Дениска... Да как же я тебя не признал, Господи!
— Он самый, Кузьма Силыч.
Поднялись, обнялись. Удивлению стрельца не было предела
— Уж не чаял с тобой и свидеться. И вдруг как гром с ясного неба. Какой же ты стал, Дениска!
Кузьма шагнул к поставцу, поставил на стол сулейку с двумя чарками, вытянул из неостывшей ещё печи горшок с пустыми щами.
— Извиняй, паря, за скудную снедь — ни хлеба, ни мяса, голодно на Москве.
Выпили по чарке, похлебали из оловянной миски кислых щей.
— А теперь рассказывай, как ты в Москве очутился. Ведь тебя, паря, всюду искали, дабы казнить.
Илейка поведал о своих скитаниях, о том, как пришлось превратиться не в того, кем был, а в конце сказал:
— Буйным ветром меня на Москву потянуло, Кузьма Силыч. Одежонку добрую прикупил, дабы сыскные люди не приставали.
— Ясно, — вздохнул Кузьма. — Побродяжил ты, навидался горя. Борона по твоей судьбе прошлась. А ведь каким красным молодцем был. В Соляной бунт тебе и двадцати не было, а ныне дюжой мужичина. Мудрено признать.
— Сам-то как от казни уберёгся? Ведь ты, Кузьма Силыч, посёк саблей холопа боярина Морозова.
— Холоп тот, — посуровел Ногаев, — допрежь стрельца Аникея из пистоля убил. Отца жены твоей Ирины. Был сыск. На дыбу подвесили, но, слава богу, стрельцы за меня в приказе заступились. С дыбы сняли, но кнутом попотчевали. До сих пор в стрельцах топаю... Отец же твой в чёрную смерть Богу душу отдал. На мирском кладбище в братской могиле захоронили, без домовины. Дело было спешное, едва успевали покойников собирать. И сами мёрли, как мухи. В нашем Стрелецком приказе, почитай, и десятой доли не осталось. Тяжкая была година.
— На Москве, чую, и ныне не слаще.
— Верно, паря. Вконец задавили народ, всех святых вспомнишь. Только и ходу, что из ворот да в воду. Даже мы, стрельцы, в великой затуге. Без хлебного и денежного жалованья сидим. Голод за глотку берёт, вот-вот в мятеж кинемся.
— А чего? — жёстко глянул на Кузьму Илейка. — Ужель боярские неправды сносить? Всякому терпенью приходит конец. Чую, колыхнёт народ бояр.
— Колыхнёт! — веско бросил стрелец.
После этого последнего предложения хотелось бы прочитать слова «Продолжение следует». Но не суждено. Новый роман Валерия Александровича Замыслова остался незавершённым. Мы так и не узнаем, как сложились бы дальше отношения между сподвижником Петра Первого князем Фёдором Троекуровым и простолюдином Илейкой Ивановым, уже знакомым читателям как Дениска Косарев по романам «Набат над Волгой» и «Грешные праведники». Но по трём первым главам, написанным рукой мастера, можно твёрдо сказать, что их судьбы должны были захватывающе схлестнуться. Жаль, что об этом мы уже не прочитаем...
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n2920/






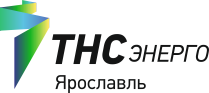



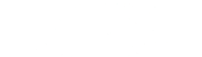
Комментарии: